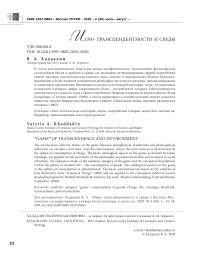"Игра" трансцендентности и среды
Автор: Хаддадин Валерия Адольфовна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 4 (96), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается тема игры между метафизическим, традиционно-философским осмыслением бытия и времени и среды, где последняя детерминирована сферой потребления вещей. Базовые, онтологичнские аспекты игры, данные в определениях Йохана Хейзинги, применены к более поздним положениям философии постструктурализма, проанализированы в социальном преломлении. Производится анализ эстетической категории «игра», её смысловых оснований в рамках сферы современного быта - потребления товаров. Обосновывается онтологическая сущность игры в сфере потребления. Выводы основаны на анализе работы Жана Бодрийяра «Система вещей» (1968), а также применены к концептуальной модели развития общества, данной Маршаллом Маклюэном в работе «Понимание медиа: внешние расширения человека» (1962).
Эстетическая категория "игра", потребление товаров, вещи, быт, онтология, бодрийяр, трансценденция, постструктурализм
Короткий адрес: https://sciup.org/144160883
IDR: 144160883 | УДК: 008:001.8 | DOI: 10.24412/1997-0803-2020-10405
Текст научной статьи "Игра" трансцендентности и среды
Прежде чем мы начнём приведение к общему знаменателю онтологических оснований игры в сфере потребления, обратившись к работе Жана Бодрийяра, исследований неоспоримого присутствия игры между трансцендентностью и вещным миром, полагаем необходимым обратиться к определению самой эстетической категории «игра», данному в поле метафизики, а именно – коротко вернуться к определению игры, которое дал Йохан Хейзинга, нидерландский учёный, придавший новое яркое осмысление бытийности человека. Хейзинга сблизил понятия Homo faber и Homo ludens, то есть понятия Человека Созидающего и Человека Играющего, а поле культуры (а в нашем случае и потребления) обозначил одновременно игровым и в то же время созидательным конгломератом, упраздняющим обыденной жизнью. Для Хейзинги игра – это один из видов жизнедеятельности. Тем не менее он не детерминирует игру только в биологической сфере (равно как и в логической или только этико-эстетической). Сфера бытийности игры, по Хейзинге, располагается также и в социальной плоскости. Заметим также, что игра – это в некоторой степени и биологическая сущность любого живого существа. При этом Хейзинга приводит данное утверждение исходя из того, что игра «прежде всего и в первую голову свободная деятельность» [9, с. 17], которая тем не менее должна включать правила, особые пространственно-временные условия, а также удовольствие. На наш взгляд, в большей степени удовольствие (исключая инстинкты самосохранения и инстинкт размножения) роднит нас с животными – в качестве биологических видов. Но более важным является то, что животные (и растения) определяются средой обитания, человек же биоло- гически не привязан к определённому ареалу на земле, при том что имеет уникальную способность приспособления. Вспомним легенду, рассказанную Платоном об Эпиме-тее, распределявшем свойства, качества среди животных [8, с. 212] Человек, которому не досталось специальных свойств, какие достались животным, оказался максимально зависим от внешних условий, условий среды и в то же время не привязан к определённому ареалу. Человек не обладает звериной мощью, когтями, мощными клыками, не живёт в воде, не перемещается быстро в пространстве без помощи специальных приспособлений и т.д. Следовательно, благодаря своей природной незащищённости человек склонен к большей гибкости, способен к трансформации, приспособлению, лавированию, игре в рамках поставленных ему условий, игре в рамках социальных условий, игре по преодолению рамок, выставленных социальными нормами и институтами. Таким образом, человек получает возможность осуществлять осмысленную социальную и поведенческую деятельность: «для детёнышей животного и детей человека эта свобода ещё не существует» [9, с. 27], что заставляет взрослого человека формировать и адаптировать среду вокруг себя, равно как и научает человека «вписывать» себя в среду. То есть игра сводится к развитию селективных способностей, приносит удовольствие и является одной из основ бытия человека, одной из его биологических функций, способствует осуществлению желания упорядочить окружающий его мир.
Несмотря на то, что игра фактически и категориально относится к эстетической парадигме философии, это не лишает её права претендовать на принадлежность к онтологическим, бытийным основаниям. Философия постмодерна развенчивает данные ин- тенции, определяя мир и его основания как «хаосмос» [2, с. 246]. Причём основы данного положения отчасти были продуцированы уже в философии Йохана Хейзинги, до вступления в силу интенций постмодерна: исходя из его утверждения, что «игра существует до всякой культуры, витает над ней» [9, с. 152], что любая культура существует как игра, «разыгрывается».
Одновременно, помимо биологической плоскости, игра, завладевая человеком как социальной единицей, получает новые сферы своего приложения: психологию, философию (поиск наиболее точных определений там, где их быть не может, языковые игры, научные игры, софистика/центонность, наконец, которые присутствуют в философии в той или иной степени всегда), культурологию (в наибольшей степени описанную Хейзингой). Формулировки целостного понятия игры, как и многие другие философские определения, остаются открытыми, незавершёнными, дающими простор для научного толкования и интерпретаций. И уже одно это – игра определений и поисков оснований – присваивает игре определённый научно-онтологический статус.
Более поздние определения игры говорят нам о том, что «игры – это народное искусство, коллективные, социальные реакции на основной импульс или воздействие той или иной культуры. Как технологии суть расширения живого организма, так и игры, наряду с учреждениями, суть расширения социального человека и политического тела. Игры и технологии – контрраздражители, или способы приспособления к удару специализированных воздействий, имеющие место в любой социальной группе. Как расширения массовой реакции на повседневный стресс игры становятся точными моделями культуры …» [6, с. 119]
Маршалл Маклюэн приводит наши размышления к новому повороту, который ведёт к основной плоскости рассмотрения поднятой нами проблемы: среда и трансцендентность, где среда детерминируется областью потребления. Итак, рассмотрим маклюэновское понятие расширения. Возвратимся немного назад, к рассуждениям о том, что человек, преодолевая зависимость от внешних условий, имея уникальную свойство приспосабливаться к любому виду и роду внешней среды, приобретает селективные способности, иными словами, используя средства (механические, динамические, электрические и т.д.), «расширяет» свои способности и возможности в пространстве. Последние достижения человеческого разума позволяют человеку расширить свои способности не только в сфере физического и материального состояния, но и в сфере технологической симуляции сознания, а игра и есть не что иное, как использование рычагов «расширенного» сознания и применение интеллектуальных оснований и навыков в социуме. Как и любые интеллектуальные завоевания и расширения (по Маршаллу Маклюэну) дают человеку возможность быть проводником, своеобразным медиа. Между чем и чем? Между человеком и всем что угодно. И любой предмет, в том числе любой предмет среды обитания, является его расширением и средством медиа, благодаря которому (включая и расширенные способности сознания) человек воздействует на мир, вернее – коммуницирует с миром.
Но человек не был бы человеком, если бы главными для него не оставались вопросы конечности во времени и постоянные попытки это время остановить. Здесь мы вступаем в сферу, в которой начинаются игры трансцендентных форм, связанные с тщанием человека зафиксировать, остановить время, которое является понятием трансцендентально детерминированным. И в попытке ограничить, поймать трансцендентность пространства и времени человек начинает свои игры (по определённым правилам, как у Хейзинги: здесь и сейчас), а также, перейдя в новую парадигму осмысления бытия, приближаясь к концепции постмодерна хаосмоса, придаёт вещам, которыми он владеет, новые смыслы и основания, – вещам, которые превращаются из средств потребления, которые по определённым причинам никогда не могут насытить человека, в культурные знаки, обмен которыми идёт непрерывно и которые участвуют в игре с медиа-расширениями человека.
Обратимся непосредственно к работе Жана Бодрийяра «Система вещей» и играм в рамках традиции постмарксизма-постструктурализма, в рамках которой работал Бодрийяр. Поговорим о пространстве как о трансцендентальном топике [3, с. 68]. Игра с пространством начинается с его декриза, сжатия для человека, и в связи с этим с началом разработки функциональных решений, с выработкой транс-форм, из-за отсутствия достаточного простора для повседневной жизни. При этом, как следствие, освобождается функция вещи, то есть вещь освобождается от своего функционала, превращаясь в символ. Нет жизненной необходимости (в рамках игры в пространстве) наделять вещь отягощающими деталями. Это приводит к обезличиванию вещи (в противовес классицизму или модерну, например). Все нефункциональные свойства вещей находят своё «оправдание» в другой плоскости – плоскости игры в сфере «среда – время», о чём будет сказано ниже.
Человек, по мнению Бодрийяра, становится «человеком расстановки» [1, с. 14] и начинает свои игры, сам становясь моделью «функционального» домашнего жильца, например, как устроителя собственной среды обитания, – то есть участником игры, находящимся в позиции животного, детерминированного к определённой среде обитания. Человек участвует в стратегической игре со средой, где в логике игры прослеживается прообраз человеческих отношений и каждая вещь, предмет обстановки, который принадлежит человеку, является отображением индивидуальности её хозяина, некоторым образом вбирает его индивидуальность. «Вещи отображают в себе целое мировоззрение … а отношения между людьми – как соотношения, трансцендентные их субстанциям; сам дом становится эквивалентом человеческого тела, чья мощная органическая система в дальнейшем обобщается в идеальной схеме включения его в структуры общества. Всё вместе даёт целостный образ жизни, чей глубинный строй – строй Природы, первозданной субстанции, откуда и вытекает вся ценность. Создавая или изготавливая вещи, придавая им некоторую форму, которая есть культура, человек преобразует субстанции природы» [1, с. 17]. Таким образом, игра в приобретение, расстановку, компоновку придаёт вещам иллюзию пантеистического бытия, приравнивает их к среде обитания, созданной человеком, и служит в то же время элементом социальной культуры. Налицо игра в лоне старой, доброй, классической онтологической философии.
Система среды человека в этом случае – знаковая система (и в период творчества Бодрийяра, в эпоху структурализма-постструктурализма). Поскольку знаки создают серийность, постольку и игра с вещным миром разнообразна и многопла-нова. В свою очередь, и материалы, с кото- рыми играет человек в своей среде, имеют значения. Поговорим о стекле. Стекло является притягательным материалом для отображения философских размышлений. Так, Хосе Ортега-и-Гассет знаменит своей мыслью-историей о человеке, смотрящем сквозь стекло [7, с. 504]. И чем, условно говоря, ниже его творческий потенциал и возможность восприятия современного искусства (модерна и его элементов на то время), тем присутствие стекла становится для него значимым/заметным в процессе восприятия окружающей действительности, среды. Человек с высоким потенциалом и способностью воспринимать новое видит не только пейзаж за стеклом, но и отображение себя, равно как и своей творческой мысли, а стекло, как проводник и средство, позволяет ему видеть пейзаж позади стекла в виде, преломлённом его присутствием. По мысли Маклюэна, стекло становится проводником, медиа. Точно так же и Бодрийяр говорит о свойствах стекла как о веществе абстрактного порядка, которое даёт нам возможность выходить на уровень игры человека-среды-вещей, где игра переходит на новый уровень: «Вековая символика “стеклянного дома” продолжает жить … но обаяние трансцендентности уступает место обаянию среды …» [1, с. 21]. Равно как и зеркало, стекло становится своеобразным проводником, который позволяет внешней среде, к которой, в отличие от животных, так плохо приспособлен человек, вольно играть значимую роль в его жизненном пространстве.
Если говорить о сути игры человек-ве-щи, человек-пространство-время, то её можно охарактеризовать коротко: абстракция могущества. Знаки нашего могущества: вещи, обстановка, автомобиль, коллекционирование, коллекции, раритетные вещи (как самая яркая попытка «заморозить» время), престижная одежда, etc. одно- временно служат и инструментами, и партнёрами в нашей игре, оформляют некий духовный вакуум, который мы ощущаем всё больше и больше в повседневной жизни, в линейности времени, со сменой историко-философских парадигм. От декартовского cogito (выделения субъекта и объекта в противовес человеку – сыну Божьему), от антропологизации до хаосмоса и исчезновения субъекта в структуре взаимоотношений человек – мир. Вещи становятся теми игрушками, которые предоставляют нам место властителей в поле знакового могущества. Но, к сожалению, победителя в этой игре не существует, поскольку с признанием власти над нами игры в потребление мы теряем многие естественные человеческие интенции. И это не только физическая нагрузка, но и другие телесные и духовные движения, которые веками служили нам естественным образом, не приводя к печальным психофизиологическим последствиям и духовным утратам.
Всё вышесказанное, что было не просто зародившейся тенденцией, но основой для западного общества сформировавшегося потребления второй половины ХХ века, для нашей страны является в настоящий момент пластом активного проживания. Наша искренняя душевная «жестикуляция», короткий жест, который бывает так символичен и важен в разных моментах и жизненных ситуациях, скрадывается в общем потоке потребления вещей и гаджетов. Сегодня каждый гаджет способен сформировать вокруг себя некое магически-мифологиче-ское поле, вернее техно-мифологическое поле. И каждая вещь, которую мы используем как наше некое продолжение, медиум во взаимодействии с внешним миром, пре- вращается в симулякр того естественного мира, связь с которым мы теряем из-за перехода самого человека в единицу игрового поля, в котором энергия человека становится также подделкой истинных, бытийных усилий.
Как вещи, так и человек становятся функциями, знаками в игре трансцендентных сил, не обладающими самостоятельным смыслом и являющимися калькой с фундаментальных свойств Человека и Среды. Все участники игры обладают функцией «знаковости». «В них всегда присутствует строй Природы (первичная функция, бессознательное влечение, символическая соотнесённость с человеком), но присутствует лишь в виде знака. Материальность вещей больше не сталкивается в них непосредственно с материальностью потребностей: происходит выпадение этих двух несвязно-первичных антагонистических систем в силу того, что меж ними вклинивается абстрактная система манипулируемых знаков – функциональность» [1, с. 83]. Игра в рамках системы.
В заключение необходимо отметить, что методологический подход Бодрийяра ограничен рамками постструктурализма, предвестника постмодерна. Говоря терми- нами Жака Лакана, знаковое, символическое оказывается детерминирующим фактором по отношению к реальному и воображаемому [5, с. 12].
Всё вышесказанное с большой вероятностью можно отнести к российскому обществу, поскольку идеи постмодернизма не настолько сильно охватили наше общество, придерживающегося в большей части традиционной системы мировоззрения (сейчас мы не говорим о городах-конгломератах, городах – экономических монополистах). Поэтому игра является основополагающей частью взаимоотношений в социальной системе, трансцендентальным, символическим структурализмом, не до конца лишённым гуманности и не всегда атеистичным. Таким, каким он является в парадигме европейского постмодерна и европейском времени «после времени».
«Истина потребления состоит в том, что оно является функцией не удовольствия … функцией не индивидуальной, но непосредственно и всецело коллективной» [1, с. 83]. Игра – это современный спасительный способ существования в социуме, способ приблизиться к истине, которая расположена в лоне онтологического, бытийного познания.
Список литературы "Игра" трансцендентности и среды
- Бодрийяр Ж. Система вещей / перевод с французского и сопроводительная статья С. Зенкина. Москва: Рудомино, 2001. 224 с.
- Дьяков А. В. Феликс Гваттари: Шизоанализ и производство субъективности [Электронный ресурс]. URL: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s00/z0000945/st007.shtml
- Жукова О. И. Понятие трансцендентности и его значение для анализа структуры самости [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ponyatie-transtsendentsii-i-ego-znachenie-dlya-analiza-struktury-samosti/viewer
- Камальдинова А. Идейные источники взглядов Ж. Бодрийяра // Власть. 2011. № 3. С. 77-80.
- Лакан Ж. Имена-Отца [Электронный ресурс]. URL: https://ekniga.org/gumanitarnye-nauki/filosofiya/94865-imena-otca.html
- Маклюэн М. Понимание медиа: Внешние расширения человека. Москва: Кучково поле, 2003. 119 с.
- Ортега-и-Гассет Х. "Дегуманизация искусства" и другие работы: сборник: перевод с испанского / [послесловие Н. Матяш]. Москва: Радуга, 1991. 638, [1] с.
- Платон. Избранные диалоги / [вступительная статья и комментарии Л. Сумм; перевод с древнегреческого С. К. Апта и др.]. Москва: Эксмо, 2009. 766, [1] с.
- Хейзинга Й. Homo ludens; В тени завтрашнего дня / перевод с нидерландского и примечания В. В. Ошиса; общая редакция и послесловие [с. 405-439] Г. М. Тавризян. Москва: Прогресс: Прогресс-Академия, 1992. 458, [1] с.