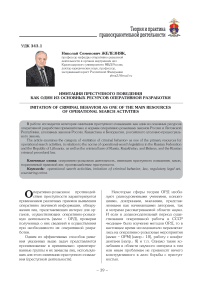Имитация преступного поведения как один из основных ресурсов оперативной разработки
Автор: Железняк Н.С.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Теория и практика правоохранительной деятельности
Статья в выпуске: 1 (58), 2025 года.
Бесплатный доступ
В работе исследуется категория «имитация преступного поведения» как один из основных ресурсов оперативной разработки применительно к нормам оперативно-розыскных законов России и Литовской Республики, уголовных законов России, Казахстана и Белоруссии, российского уголовно-процессуального закона.
Оперативно-розыскная деятельность, имитация преступного поведения, закон, нормативный правовой акт, противодействие преступности
Короткий адрес: https://sciup.org/140310044
IDR: 140310044 | УДК: 343.1
Текст научной статьи Имитация преступного поведения как один из основных ресурсов оперативной разработки
Оперативно-розыскное противодей ствие преступности характеризуется применением различных приемов выявления оперативно значимой информации, обнаружения лиц, представляющих интерес для органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (далее – ОРД), проверки полученных о них сведений и осуществления при необходимости их оперативной разработки.
Одним из эффективных способов решения указанных выше задач представляется проникновение в криминально ориентированные группы и их замыслы лиц, использующих для этого имитацию преступного поведения (преступной деятельности).
Некоторые сферы теории ОРД изобилуют разноуровневыми учениями, концепциями, доктринами, мнениями, представленными как начинающими авторами, так и мэтрами рассматриваемой области науки. И если в дозаконодательный период существования оперативной работы в СССР «модным» было изучение методов ОРД, то в настоящее время исследователи переключились на оперативно-розыскные мероприятия (далее – ОРМ) [напр.: 10], работу с конфидентами [напр.: 8] и т.п. Однако такие колебания в области научного интереса к тем или иным проблемам не привносят ничего конструктивного в дело борьбы с преступностью.
В связи с этим наша точка зрения заключается в том, что любые ресурсы, использование которых позволяет противодействовать криминалу, должны считаться полезными и, соответственно, перманентно становиться предметом научных исследований [напр.: 3].
Рассматриваемая в настоящей работе категория долгое время подвергалась забвению, поскольку не исследовалась в принципе. Лишь однажды более тридцати лет назад белорусским ученым А.В. Пивоварчиком была защищена кандидатская диссертация «Правовые и организационно тактические проблемы имитации в оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел», в рамках которой изучались вопросы использования имитационного ресурса в различных областях ОРД [11]. В дальнейшем имитация как феномен лишь упоминалась в редких научных трудах [напр.: 2; 5; 6], однако дальше этого дело не пошло.
Можно было бы оценить посыл автора как надуманную проблему, существенно не влияющую на оперативно-розыскной процесс, не отраженную в законодательстве и изредка упоминаемую представителями российской науки. Однако это не так.
Например, в ст. 3 Закона об ОРД Литовской Республики1 имитационная, модель преступного деяния2 определена как « санкционированные действия, формально содержащие признаки преступного деяния или иного правонарушения, совершаемые в целях защиты от преступного посягательства на охраняемые законодательство права и свободы, собственность лица, общественную и государственную безопасность». Здесь же дается характеристика близкого к имитации понятия « секретная операция» , под которой подразумевается совокупность оперативных действий в целях задержания совершающих или совершивших преступное деяние лиц и
(или) сбора информации, могущей иметь значение для расследования преступного деяния, в случае, если при наличии информации о покушении на совершение преступного деяния или о совершаемом преступном деянии создаются условия для покушения на совершение преступного деяния или для совершения преступного деяния в предусмотренном месте и в нужное время 3 .
Далее в ст. 12 упомянутого закона, посвященной рассматриваемой нами категории, законодатель достаточно подробно разъясняет содержание и условия осуществления указанных действий. В частности, отмечается, что они санкционируются соответствующим прокурором на период не более 6 месяцев (который при необходимости может продляться неограниченное количество раз), в постановлении указываются данные, обосновывающие необходимость применения имитационной модели преступного деяния, сведения о лицах, в отношении которых будет она применяться, пределы осуществляемых действий, преследуемый результат.
Особо следует обратить внимание на завершающее предписание ст. 12, в котором, на наш взгляд, абсолютно правомерно фиксируется запрет на такие действия, представляющие непосредственную угрозу жизни, здоровью человека или могущие повлечь иные тяжкие последствия.
Так как же нам относиться к имитации преступного поведения в ОРД?
Любые правовые исследования следует начинать с уяснения терминологии [4]. В наиболее известных словарях4 термин «имитировать» описывается как воспроизводить с возможной точностью, подражать кому- или чему-нибудь. Понятно, что субъект, проникающий в преступную группу или находящийся в ней и давший согласие на оказание содействия оперативному подразделению, как правило, должен заниматься той же (или близкой к той) деятельностью, проще говоря, предположительно совершать преступные действия. В этом смысле основная проблема заключается в отсутствии в законодательстве Российской Федерации реальных предписаний, освобождающих от ответственности лицо, совершившее уголовно наказуемые деяния по заданию органов, осуществляющих ОРД.
Рассматриваемые нормы присутствуют, например, в правовой системе США1, где подобные действия ограничиваются лишь некоторыми условиями: в частности, субъект-имитатор не должен быть инициатором или организатором преступления, он не может совершать тяжкие насильственные действия и, самое главное, все это должно происходить с разрешения и под контролем ФБР.
Вместе с тем противники внедрения подобного опыта могут аргументировать свою позицию существенным отличием американской и российской нормотворческих систем. Однако в пользу этого положения говорит наличие таких норм в юридических предписаниях близких нам по географии и праву государств: в УК Республики Беларусь имеется ст. 38 «Пребывание среди соучастников преступления по специальному заданию»2, предусматривающая условия освобождения от уголовной ответственности лица, внедренного в преступную группу. Похожая норма включена в УК Республики Казахстан3.
И этому следовало бы только восторгаться. Вместе с тем на протяжении длительного времени, охватываемого десятилетиями, представители российской законодательной власти, несмотря на достаточно конструктивные предложения представителей теории сыска [напр.: 94], не делают попыток оптимизировать исследуемые в настоящей работе возможности оперативных подразделений в борьбе с преступностью.
Следует отметить, что и сегодняшние практики, даже обладающие достаточным опытом в области оперативного внедрения, с огромной неохотой используют данный ресурс в наиболее серьезных оперативных разработках.
Причин для этого несколько, и они в большей части носят нормативный характер.
Так, лицо, привлеченное к содействию органам, осуществляющим ОРД, в борьбе с преступностью, согласно сформулированному в ч. 4 ст. 18 оперативно-розыскного за-кона5 предписанию, якобы освобождающему его от уголовной ответственности, должно соответствовать нескольким обязательным условиям:
– состоять в преступной группе;
– совершить противоправное деяние, не повлекшее тяжких последствий;
– активно способствовать раскрытию преступлений;
– возместить нанесенный ущерб или другим образом загладить причиненный вред.
Для понимания возможностей реализации рассматриваемого нормативного положения, представляется, следует охарактеризовать каждое из отмеченных выше условий.
Пипо должно состоять в преступной группе . В связи с этим возникают вопросы о соответствии этому условию субъекта, который в ней не состоял, но был внедрен в преступную группу оперативными сотрудниками, и как быть, если он смог установить подобные отношения с одиноким, но опасным преступником, создав преступную группу6.
Оно должно совершить одно противоправное деяние, не повлекшее тяжких последствий1. Преступные группы, как правило, создаются для совершения более чем одного криминального акта. Что касается преступника-одиночки, то совершение им преступлений средней и ниже тяжести вполне возможно. В этой части возникает еще один вопрос: может ли конфидент для завоевания доверия и авторитета у лица (лиц), представляющего оперативный интерес, самостоятельно совершать преступления иного характера, чем приняты у контрагента или в преступном формировании.
Рассматриваемое лино должно активно способствовать раскрытию преступлений. По этому условию возникают сразу два вопроса. Во-первых, что понимается под активным способствованием раскрытию преступлений, где, в каком нормативном правовом акте содержатся подобные характеристики, позволяющие в дальнейшем их использовать для подтверждения такого способствования. Во-вторых, можно ли будет считать выполнением этого условия, если содействующее лицо оказало помощь не в раскрытии, а в предотвращении тяжкого преступления, например террористического акта или убийства.
Завершающим условием освобождения лица от уголовной ответственности выступает обязательность возмещения им нанесенного ущерба или заглаживание причиненного вреда другим образом. Отсутствие каких-либо официальных разъяснений или критериев, характеризующих подобные действия, минимизирует влияние этого обстоятельства на решение вопроса об освобождении лица от уголовной ответственности.
Более того, исследуемая норма завершается словосочетанием, определяющим, что освобождение лица от уголовной ответственности регулируется законодательством Российской Федерации, что в данном случае означает использование положений УК РФ, в главе 11 которого отсутствует подобное основание.
Таким образом, оцениваемое предписание выглядит как декларативное и не может быть применено для освобождения упомянутого лица от уголовной ответственности.
Но и это еще не все. Внедренное лицо в случае привлечения к установленной законом ответственности участников группы должно иметь четкие гарантии от подобного исхода.
На практике на завершающем этапе оперативной разработки существует требование о легендированном выводе конфидента из разработки до начала ее реализации [1]. Такой путь представляется наиболее безболезненным как с правовой точки зрения, так и с позиции защиты содействующего лица от неправомерного привлечения к уголовной ответственности. При нарушении этого правила сыщикам зачастую приходится «терять» конфидента в ходе задержания остальных членов группы. Данный методический прием, на наш взгляд, не является эталоном творческого подхода к рассматриваемой ситуации.
Но как быть, если по нашему с конфидентом недосмотру или в связи с неожиданно возникшими обстоятельствами «наш человек» все-таки подвергается задержанию вместе с соучастниками криминальной деятельности?
Согласно уголовно-процессуальному закону он, как и остальные члены преступного сообщества, должен быть допрошен об обстоятельствах преступной деятельности и его участии в ее осуществлении.
Давать в этом случае показания о своей истинной роли в преступной группе конфидент не должен, поскольку в дальнейшем это может повлечь для него неблагоприятные последствия, например месть со стороны преступников или их связей2. Право в этом смысле, к сожалению, на их стороне. Поясним это с использованием положений так называемого закона о защите свидетеля3. В ст. 2 упомянутого нормативного правового акта представлен перечень лиц, подлежащих государственной защите. Основными акторами этого списка выступают потерпевший, свидетель и даже подозреваемый и обвиняемый. Правда, в ч. 2 рассматриваемой статьи отмечается, что «меры государственной зашиты могут быть также применены до возбуждения уголовного деда в отношении заявителя, очевидца или жертвы преступления либо иных дин, способствуюших предупреждению иди раскрытию преступления». Можно было бы удовлетвориться таким предписанием, но словосочетание «до возбуждения уголовного дела» позволяет однозначно судить, что конфидент (который подпадает под содержание ч. 2 рассматриваемой статьи) после возбуждения уголовного дела должен либо превратиться в свидетеля, утратив свой негласный статус, либо лишиться государственной защиты. И тот, и другой варианты представляются нам не соответствующими его роли в деле борьбы с преступностью.
Известно, что проектное название данного закона было сформулировано следующим образом: «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных дин, содей-ствуюших уголовному судопроизводству»1. Завершающая часть наименования нормативного правового акта, как видится, позволяла обеспечивать конфидентам государственную защиту независимо от этапа расследования преступления. Но, как всем известно, история не знает сослагательного наклонения2.
Таким образом, следует сделать вывод, что в российской правовой системе осуществлять имитацию преступной деятельности посредством совершения конфидентом признаваемых криминальными действий сегодня представляется опасным в связи с отсутствием в законодательстве норм, признающих подобные акты не преступными и, значит, не подлежащими негативной оценке с позиций УК РФ.
Выходом из существующей ситуации может быть внесение соответствующих изменений в ФЗ об ОРД (в части уточнения характера приемлемых действий содействующего оперативным подразделениям лица и уровня их санкционирования), УК РФ (для формулирования предписаний, признающих подобные действия оправданными и не подлежащими уголовному наказанию), закон о защите свидетеля (с целью уточнения роли конфидента и возможности его защиты на всем протяжении процедур уголовного судопроизводства).
Принятие подобных решений позволит возродить имитацию преступной деятельности как один из основных ресурсов оперативной разработки преступников.
1 Автор в начале 2000-х годов участвовал в работе комиссии по подготовке ответа на вето Президента России Б.Н. Ельцина в отношении данного закона.
2 Предположительно, высказывание принадлежит Карлу Хампе (Karl Hampe) (1869-1936), гейдельбергскому профессору: «Die Geschichte kennt kein Wenn» – «История не знает слова «если»»; эти его слова были записаны Голо Манном. URL: .