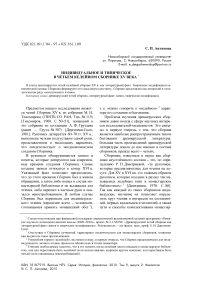Индивидуальное и типическое в четьем келейном сборнике XV века
Автор: Антипова Светлана Павловна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 2 т.9, 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется четий келейный сборник XV в. как литературный факт. Творческие модификации канонической основы Сборника формируют его смысловую константу. Сборник представлен как авторский в типологическом ряду «аскетического чтения».
Древнерусский четий сборник, литературный факт, канон, творческие модификации
Короткий адрес: https://sciup.org/14737219
IDR: 14737219 | УДК: 821.161.1'04
Текст научной статьи Индивидуальное и типическое в четьем келейном сборнике XV века
Предметом нашего исследования является четий Сборник XV в. из собрания М. Н. Тихомирова (ГПНТБ СО РАН, Тих. № 115) [Тихомиров, 1968. С. 50–51], попавший в это собрание из коллекции А. Ф. Груздева (ранее – Грузд. № 307) [Дергачева-Скоп, 1981]. Рукопись датируется 60–70 гг. XV в., выполнена четким полууставом одной руки, представленном в нескольких вариантах, что свидетельствует о неодномоментном создании Сборника.
В рукописи обнаруживаются записи и пометы, которые датируются как современные времени создания Сборника. Самые поздние записи относятся к концу XVI в. Указанный факт позволяет предполагать, что до этого времени Сборник был в живом обращении, а затем либо вошел в состав монастырской библиотеки и не выдавался для чтения, либо перешел в частные руки и оказался невостребованным. В любом случае Сборник был переписан для индивидуального чтения (вероятнее всего – человеком, готовящимся принять монашеский обет 1), т. е. можно говорить о «келейном» 2 характере его создания и бытования.
Проблема изучения древнерусских сборников давно вошла с сферу научных интересов исследователей-медиевистов. Это связано, в первую очередь, с тем, что сборник является наиболее распространенным типом бытования древнерусской литературы: большая часть произведений древнерусской литературы дошла до нас именно в составе сборников, прежде всего – четьих.
Сборники, известные в науке как сборники неустойчивого состава – это, по определению Р. П. Дмитриевой, «те рукописи, которые предназначались для чтения на досуге. Для XV и XVI вв. это главным образом рукописи, которые входили в раздел так называемых келейных книг в монастырских библиотеках» 3 [Дмитриева, 1970. С. 86]. Так как каждый из таких сборников индивидуален, изучение их позволяет определить круг чтения и интересов их составителей, первых владельцев и читателей, а также пути и способы комплектования монастыр-
* Статья подготовлена при финансовой поддержке аналитической ведомственной целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы (2009–2010)», проект № 2.1.3/6794: «Древнерусский четий сборник как литературный факт (канон и творческие модификации)». Руководитель – д-р филол. наук, проф. Е. И. Дергачева-Скоп.
ских библиотек, в которых эти сборники были обнаружены [Розов, 1981. С. 110].
Наиболее распространенным в XV в. был тип сборника, содержащего, большей частью, жития, «слова», повести и сказания церковно-назидательной и богословской тематики, сочетание которых было выбором их составителей. Сборники эти были составлены преимущественно в монастырях по инициативе частных лиц (довольно часто – по благословению наставника), поэтому они являются индивидуальными.
В работах Т. Н. Копреевой [1976], Я. С. Лурье [1961], ряде трудов Р. П. Дмитриевой [1972; 1970; 1974; 1968] четьи сборники получают освещение и с точки зрения развития общественной мысли и идеологии читательской аудитории того или иного периода. Кроме того, среди четьих сборников широкое освещение получают сборники авторские 4 (см.: [Лурье, 1961; 1985; Каган и др., 1980]), так как личность их составителя является тем объединяющим фактором, который позволяет выделить основную константу сборника.
Несмотря на то что в научной традиции уже давно сложилась тенденция изучения древнерусских сборников с точки зрения их типологических связей друг с другом, сборники неустойчивого состава в настоящее время недостаточно изучены как часть единой системы. Имеющиеся на эту тему исследования до недавнего времени не поднимали вопрос о типологии четьих сборников для келейного чтения. В последнее время появились новые работы, посвященные этой теме. В частности, можно назвать статью М. С. Егоровой, в которой была предпринята попытка выделить в особый тип русские аскетические сборники XIV–XVI вв. [Егорова, 2004]. Исследовательница рассматривает эти сборники с точки зрения законов бытования в их составе переводных и оригинальных сочинений, принадлежащих к фонду мистико-аскетической литературы.
Наше исследование посвящено анализу сборника Тих. 115 как индивидуального явления в ряду типологически близких ему сборников. Сборник составлялся для личного чтения и является авторским, что прослеживается в способе организации статей.
Произведения, входящие в состав Сборника, по преимуществу представлены не целиком, а в виде небольших фрагментов, имеющих всегда завершенный вид. Дополняя друг друга, эти статьи образовывают тематические блоки, которые формируют каноническую константу всего Сборника, его смысловое ядро, характеризующее Тих. 115 как сборник покаянно-аскетический 5.
Первый тематический блок представлен произведениями эсхатологической тематики. 60–70 гг. XV в. были тем временем, для которого вопросы эсхатологии стояли особенно остро из-за атмосферы ожидания конца света: в 1492 г. – по окончании седьмой тысячи лет – по средневековым представлениям, должны были произойти второе пришествие Христа и последующий за ним Страшный Суд (см.: [Лурье, 1960. С. 39–66; Казакова, Лурье, 1955. С. 74–221; Клибанов, 1960. С. 167–251]). Это объясняет, что те же или сходные сочинения эсхатологической направленности обнаруживаются в целом ряде сборников этого времени.
В составе Тих. 115 мы находим «Слово Палладия мниха о втоpом пpишествии и стpашном суде» 6 («Ныне исповежься, душе, ныне qмилися и ныне въсплачися, слезы точаще непpестанно и въздыхание немолчно въздыхающи къ Твоpцю своему и Богу») (см.: [Франко, 1906. С. 371–387]), «Слово Евагpия мниха о умилении и о стpасе будущих мук и о покаянии» 7 («Охъ, душе, ужико моя! О гоpе, субpужица моя! О чемь пеpвее истяжят тя ангели, о чемь первее ответъ даси? О котором деле отвещае-ши, воспомяни убо страшнаго суда и гордаго въздаяния, еже согрешила еси и приобидела еси своего Творца заповеди словом и деломъ или помышлениемъ»), сочинение «Святаго Ефрема о Втором Пришествии» 8 («Въ страшное во второе пришесьтвие полунощи же труба гремети начнеть, небо подвижется и земля въстрясется, луна померькнет, звезды с небеси спадуть, солнце во тму превратиться, мертвии вси "ко от сна вьстанут»).
Составитель Сборника включил каждое эсхатологическое сочинение в своего рода «микроцикл» из двух-трех произведений, дополняющих и поясняющих смысл и идею друг друга и конкретизирующих идею автора Сборника. Контекстом для эсхатологических произведений в составе Тих. 115 служат либо сочинения покаянной тематики (такие как отрывки из « Словес святаго Ефрема о покаянии »9 (« Съшедый Господь от недръ Отчь, и бывъ путь намъ спасения »), « Слова Иоана Златоуста о покаянии » [Архим. Иосиф, 1892. Ст. 178] (« Възлюблении, оставлеши суетная дела и погыбающая житья сего блюдете ») и других), либо небольшие по объему философско-поэтические тексты (« Стих Корони-ев » (« Множество человеческое на земли все ») (см.: [Прохоров, 1987. С. 123–154]), сочинение, не озаглавленное в Сборнике (« Зря тя в гробе ужасаюся твоего видения и сердечно каплющую слезу проливаю »), имеющее в других рукописях заголовок « Германово » или « Германа патриарха Царяграда » 10, «притчевые» тексты о бренности человеческой жизни).
Таким образом, первый блок, объединяет сочинения на тему Страшного Суда, смерти и покаяния. Составитель Сборника Тих. 115 не использовал эсхатологические произведения в качестве предсказаний о скором конце света (на предполагаемое время которого в тексте Сборника нет ни одного указания). Обращаясь к теме второго пришествия, он таким способом пытается предупредить, что Страшный Суд (когда бы он ни случился) будет ужасным для каждого, кто не одумается и не обратится к праведной жизни. В пользу этого соображения говорит и факт использования составителем Сборника отрывков из Диоптры Филиппа Монотропа. Как пишет Г. М. Прохоров, «“Диоптру” активно использовали на Руси во второй половине XV в., ссылаясь на нее и приводя из нее выдержки, чтобы доказать несправедливость распространившихся было ожиданий конца света по истечении седьмой тысячи лет “от сотворения мира”» [Прохоров, 1988. С. 194]. И действительно, в диалоге с Плотью Душа, перечисляя различные версии о возможном времени наступления конца света (в том числе и ту, по которой он должен наступить в 7000 году от сотворения мира), одну за другой опровергает их: «Не лепо бо есть та писати, яко ничто же известно в сих». Зато она рассказывает, каким будет второе пришествие, призывает думать о собственной смерти и собственных грехах и стремиться к добродетели [Прохоров, 1987. С. 81–86]. Такую же позицию мы видим в Сборнике Тих. 115: не предрекается скорое наступление Страшного Суда, но он неизбежен, как неизбежна и человеческая смерть. Будущие вечные муки за неправедно прожитую недолговечную жизнь должны обратить человека к мысли пересмотреть свое земное существование.
Произведение, не затрагивающее тему Второго Пришествия, но, тем не менее, идейно связанное с блоком эсхатологических сочинений в составе Тих. 115, – « Слово о четверодневном Лазаре », связанное с евангельским рассказом о его воскрешении.
Это апокрифическое сочинение возникло на русской почве на рубеже XII–XIII вв. Известно две редакции сочинения – краткая и пространная. Основу краткой редакции составляет молитва-плач Адама, который, сидя в Аду, узнает, что Лазарю суждено воскреснуть, и обращается к нему с просьбой передать его мольбу об освобождении от мук Христу. Как правило, эта редакция «Слова о четверодневном Лазаре» переписывалась в контексте произведений, повествующих о страстях и воскресении Хри- ста или вместе с похвальными словами на память четверодневного Лазаря.
Пространная же редакция дополнена вступлением (это слова пророка Исайи и царя Давида) и логическим развитием и завершением сюжета: Лазарь, воскреснув, передает слова Адама Христу, и тот, спустившись в ад, освобождает томившихся там пленников. Текстуально она восходит к Евангелию Никодима и созданным на его основе сочинениям – к «Слову о сошествии Иоанна Предтечи в ад» Евсевия Александрийского и «Слову о погребении Иисуса Христа и о Иосифе Аримафейском» Епифа-ния Кипрского [Рождественская, 1972. С. 109]. Традиционным контекстом, в котором выписывалось «Слово» в его пространной редакции, были святоотеческие сочинения, связанные с «неделей вайий» (вербная неделя, шестая неделя Великой четыреде-сятницы) и праздником воскрешения Лазаря. М. В. Рождественская пишет, что, выступая как торжественное сочинение во славу Христа-Спасителя, «Слово» также могло быть приурочено к празднику Рождества [Рождественская, 1972. С. 119].
В Сборнике Тих. 115 представлена пространная редакция « Слова о четвероднев-ном Лазаре ». При этом сочинение в составе Сборника не связано ни с памятью Лазаря, ни с Рождеством Христовым. Наиболее логичным будет рассмотреть «Слово» в контексте произведений, являющих собой смысловую основу, ядро Сборника.
Характеризуя Сборник как покаянноаскетический, мы имеем в виду, что составитель его акцентировал свое внимание на сочинениях, так или иначе иллюстрирующих суетность всего мирского, бренность человеческого бытия и опасность вечных мук за неправедно прожитую земную жизнь. Это, как уже было отмечено, мелкие выписки из произведений эсхатологического характера, из «отческих книг», а также из философских и поэтических сочинений. Человеческое существование рассматривается как нечто эфемерное и недолговечное: «Человече, на одре възлегъ, помяни гробъ и попецися о исходе душа своея, преж даже тебе не постигнет посечение смерти, и въсхитит тя, аки левъ ко онемъ мукамъ»; «Человече, смертенъ еси, неведомо течение течеши, землю бо всю и море аще преидеши, земля ти тело скрыет и, не хотящю тебе»; «Человече, время твое течеть, акы речная быст-рость. Да блюдися и въскочи на доброде-телныя стези, не веси бо, в кыи день последнее померькнет и луна не дасть света, рекше живот скончается и душа отидеть»; «Поминай суд, чаи ответа воздаяния по делом веру и будеть, и бу-деть». В ряде произведений звучит прямой призыв отринуть греховную жизнь и обратиться к мыслям о душе. Так, например, в «Слове Палладия мниха о страшном суде» читаем: «Ныне исповежься, душе, ныне умилися и ныне въсплачися, слезы точаще непрестанно и въздыхание немолчно въздыхающи къ Творцю своему и Богу, и ныне престанися от злобъ своих, ими же прогневаеши Творца своего и Господа…»; в следующем далее первом слове «Диоптры» Филиппа Монотропа («Плачеве и рыдания инока грешна и странна, имиже спирашеся къ души своей» (см.: [Прохоров, 1987. С. 201–211]), в Тих. 115 не озаглавлено) - «Како седеши, како беспе-чалуеши, како не радиши, душе моя? Како не печешися о злыхъ, яже сдея в житии, и едино покаяние о мнозе твориши си, и тщишися истинно показати то? И въпрашаеши о семъ со мноземъ молением Отца и Учителя же пастыря муд-реишия...»; в «Слове Евагрия мниха о умилении и о страсе будущих мук и о покаянии» - «Охъ, душе, ужико моя, о горе субружица моя! О чемь первее истяжят тя ангели, о чемь первее ответъ даси, о котором деле отвещаеши? Воспомяни убо Страшнаго Суда и гордаго въздаяния, еже согрешила еси и приобидела еси своего Творца заповеди словом и деломъ или помышлениемъ». А яркие и живые картины второго пришествия иллюстрируют, каким страшным будет наказание для каждого, кто не печется о спасении своей души: «Въ страшное во второе при-шесьтвие полунощи же труба гремети начнеть, небо подвижется и земля въс-трясется, луна померькнет, звезды с не-беси спадуть, солнце во тму превратиться, мертвии вси яко от сна вьстанут», «на муку грешником будут ово убо смола горящая, иное еже червь ядовитый, не-усыпая и неумирая николиже» («Слово Ефрема Сирина о Втором Пришествии»). Однако мук ада смогут избегнуть праведники. Эта мысль иллюстрируется короткой притчей о горящем, но не сгорающем древе. Образ этот толкуется следующим образом: когда Бог придет судить людей, то «яко ог-немъ будетъ опаляемымъ всем быти», а праведники, подобно этому древу, будут «яко студеною водою обливаеми».
Таким образом, « Слово о четвероднев-ном Лазаре », включаясь в круг подобных произведений, уже не воспринимается как торжественное сочинение. Связь с праздником воскрешения Лазаря и с Рождеством утрачивается, происходит переакцентуация: «Слово» в контексте покаянно-аскетического Сборника приобретает новые оттенки смысла. Оно служит доказательством уже высказанной в Сборнике ранее мысли о возможном избавлении от вечных мук, это поучение о спасении во Христе. Апокрифический сюжет об избавлении из ада томящихся там пророков иллюстрирует путь к спасению для каждого человека. Молитва-плач Адама может восприниматься как образец покаянного обращения к Господу. Взывая через Лазаря к Христу, Адам освобождается. Словами Спасителя Адаму: « Си тя есть десни создала, сии же тя изводить ис тля смертныя и от Ада преис-подняго », – и может быть сформулирована мысль, ставшая центральной идеей « Слова о четверодневном Лазаре » в контексте Сборника Тих. 115.
Смещение акцента наблюдается не только в основной мысли сочинения, но и в его жанровой принадлежности. Пространная редакция «Слова» при своей повествова-тельности сохранила черты произведения ораторского искусства. И. П. Еремин, рассматривая ряд подобных сочинений, писал, что такого рода произведения дополняются «элементами ораторской риторики», порой даже теряя «свою нарративную природу, переключаясь в своеобразный монолог в рамках лиро-эпического повествования» [Еремин, 1966. С. 154].
В составе Тих. 115 «Слово о четвероднев-ном Лазаре» меняет свою жанровую природу. Формально сохраняя структуру ораторского сочинения, оно не может, благодаря контексту, восприниматься как торжественная речь. С риторических приемов акцент смещается на повествовательный характер и этические проблемы Воскресения.
Второй блок произведений – поучения Иоанна Златоуста: «Иоана Златоустаго слово о кленущихся во лжю крестом» («Во лжю кленущиися вели зла достоини суть, братье»), «Иоана Златоустаго слово о кротких и о тихих» [Архим. Иосиф, 1892. Ст. 172] («Бе толма бо человеци на благовещении урищаються, якоже боязнью встягнутися и скажются»), «Иоана Златоуста слово да не забываемь грехъ створеных» 12 («Се же глаголю, да послу-шаемъ точью, но да и разумеваемъ онъ»), «Слово онемь кажеть како подобает нощью встати на молитву всякому крестьянину» [Пудалов, 2000] («Где суть убо ныне жены, иже всю нощь спять?»). Все произведения этого блока переписаны подряд (кроме «Слова о покаянии», перед которым вставлено «Слово о пользе душевной» – небольшое по объему сочинение, читающееся во всех редакциях Пролога 10 мая; в Сборнике Тих. 115 оно не имеет заголовка) и объединены автором и общим характером чтения как уставного. Эти произведения подвергались составителем Сборника переработке (сокращению и комбинированию с другими, сходными по тематике произведениями и пр.). Они фундируют каноническую константу такого сборника.
В третий блок включаются произведения учительного характера, касающиеся монашеского образа жизни. Такими, например, являются «Слово о инокине, бежавшей в пустыню» 13 («Отець Иоан поведа намъ, глаголя, яко черноризица некая, живяше въ святомъ храме, зело благоговеина и преуспевающи в дело Божие»), Слово 36 из Пандектов Никона Черногорца («Яко пакостна есть беседа мнихом с мирьски-ми»), «Слово о некоем игумене его же искуси Христос во образе нищего» («Обьщему житью началник некто, имея велику славу от человекъ, игуменъ братья дву-сту») [Архим. Иосиф, 1892. Ст. 99] (в Тих. 115 оно не озаглавлено), «Святаго великаго Василья архиепископа слово о постныхъ» («Свершенеишее дело пост-ничскаго жительства се есть, еже без местных делъ отлучатися и пещися о заповедех Господнихъ»), «Слово святаго Василия Великаго, како достоить иноком быти нестяжателным» («Достоить иноку прежде всехъ нестяжателно житье име-ти»), «Слово святых отець, како есть чернорисцем житии» («Братье христо-любци, овчата стада Его, вышняго Иерусалима гражане»), «Слово о усцемь пути ведущем в жизнь вечную и о широцем ведущем в муку вечную» («Подвизаите-ся, братье, тесным путем, ведущем в жизнь вечную») и многочисленные мелкие выписки из отеческих книг.
В подборе этих выписок прослеживается тот же принцип, что и в первом блоке: произведения организованы таким образом, чтобы дополнять друг друга и глубже подчеркивать общую мысль. Так, например, вопрос о том, можно ли иноку иметь две ризы, иллюстрируется сразу тремя выписками: « Старьчества » (« Рече некто от отець, яко да не имаши в кельи своей ризы висяща праздны, яко инии правед-неиши тебе зимою мруть, и ты, излише грешенъ, излишняя имаши »), « Святаго Варсонофия » (« Некоего брата наказаше некогда великий Варсонофей, глаголя о ризахъ : “ Аще немощенъ еси, болезних ради слабостныя потребу имети летняя и зимныя ризы ”») и « Старчества вспрос отцьмъ друг ко другу: добро ли есть стяжати 2 ризы ». То же – в сочинениях о недопустимости осуждать других и словах «о падении».
Подобный принцип подбора выписок характерен, в частности, для Изборника 1076 г. Так, например, выписки в составе Изборника под общим заголовком «Како подобает человеку быти» 14, по выражению В. В. Колесова, «в своей совокупности <…> составляют как бы сценарий возможного связного повествования: перечни добродетелей и пороков, постоянно накапливаясь, могут образовать самостоятельное произведение типа Домостроя». Подобную картину можно наблюдать и в Тих. 115. Произведения первого и третий блоки тесно связаны друг с другом. Вместе они представляют собой «душеполезные словеса» (такой заголовок был дан Сборнику в XVI в.: «Словеса душеполезна о жития святых отeць. Благослови отче»).
К третьему блоку примыкает « Правило Святыя горы » (см.: [Никольский, 1903]) архимандрита нижегородско-печерского Вознесенского монастыря Досифея. Не будучи учительным, оно повествует о монашеском образе жизни, поэтому наиболее логичным представляется объединить его с другими произведениями об «иноческом житии». «Правило» было написано в ответ на просьбу игумена Спасо-Прилуцкого монастыря под Вологдой Пахомия 15 рассказать, что Досифей видел и слышал на Афоне, чему его учили святые отцы, как иноки соблюдают устав и как живут послушники [Прохоров, 1988. С. 198]. Интерес к послушничеству подтверждает наше предположение о том, что Сборник был составлен человеком, приуготовляющимся к монашеству. Это произведение как бы закрывает блок, отделяя пестрый состав Сборника от последней, более упорядоченной его части.
И, наконец, четвертый блок представлен произведениями календарного цикла, а именно – осенней и части зимней четверти. Это единственный блок, чья целостность не нарушается другими произведениями 16 и границы которого четко определены: это листы 150 – 203 об.
В этом блоке в правильном календарном порядке друг за другом следуют следующие произведения: 1 сентября – «Житие Симеона Столпника» (включая шесть чудес, три из которых озаглавлены), 8 сентября – Слово на «Рождество святыя и преславныя Богородица Мария», 9 сентября – «Свята-го Кузмы похвала Иакиму и Анне», 15 сентября – «Слово преподобнаго отца нашего Пафнотья и дщери Ефросии», 27 ноября – «Мучение святаго Иакова Перьскаго» и «Чтение святаго мученика Георгия» [Творогов, Турилов, 1987. С. 144– 145] (вторая редакция «Чуда Георгия о змие»), 6 декабря – два чуда Николы Мир-ликийского («О трех мужах» и «Об избав- лении корабля от потопа») 17 и, наконец, 25 декабря - «Слово Иоана Златоуста на Рождество Господа нашего Исуса Христа». Не все произведения имеют в заголовке календарную приуроченность, однако порядок не нарушается. Этот блок также необходим для поддержания канонической константы.
Дополняя друг друга, эти тематические блоки формируют основную смысловую константу Сборника. Общий характер его можно охарактеризовать как покаянноаскетический. Для того чтобы выяснить место Тих. 115 в системе древнерусской книжности, мы обратились к анализу четьих сборников того же времени создания. Материалом для сравнения послужили рукописи XV в. двух крупнейших монастырских библиотек Древней Руси: Троице-Сергиевой Лавры и Кирилло-Белозерского монастыря. Если среди рукописей, дошедших до нас от XI–XIII вв., основную часть составляют книги служебные (к ним относились более трепетно и, следовательно, стремились сберечь), то в XIV–XV вв. количество четьих сборников резко возрастает. Кроме того, от XV в. сохранилось в два раза больше книг, чем от четырех предыдущих столетий [Розов, 1981. С. 4], и, следовательно, доступен более широкий материал для исследования.
* * *
Среди двадцати пяти сборников из Троицкого собрания РГБ совпадения с Тих. 115 по составу обнаружились в четырнадцати, однако большая часть подобных совпадений не носит тенденциозного характера. Среди сборников, типологически и структурнотематически близких Тих. 115, можно назвать рукописи ТСЛ 747, ТСЛ 751, ТСЛ 759, ТСЛ 753, ТСЛ 757, ТСЛ 758, ТСЛ 763, ТСЛ 766, ТСЛ 767. При этом необходимо отметить, что сборники эти, по преимуществу, не имеют покаянно-аскетического пафоса, характерного для Тих. 115.
Несколько иная картина рисуется при анализе четьих сборников из библиотеки Кирилло-Белозерского монастыря, среди которых обнаруживаются рукописи, имеющие сходную с Тих. 115 структуру.
Это, прежде всего, «Третий сборник игумена Игнатия» (РНБ, КБ 16/1093). Со Сборником Тих. 115 находим лишь два соответствия: « Того же святаго и преподобнаго отца нашего Ефрема о покаании слово »
(« Същедыи Господь от ядрь Отчя »)18 и « Плачеве и рыдания инока грешна и странна, имиже спирашеся къ души сво-еи » (первое слово Диоптры), однако интересен контекст, в котором существуют в сборнике эти произведения – они включены в ряд близких по тематике сочинений. Перед « Словом Ефрема Сирина о покаянии » читаются еще три произведения этого же автора: « Святаго и преподобнаго отца нашего Ефрема о покаании и о будущемь Суде слово » (« Придете, любимицы, придете отци и братья моя, изъбранное стадо Отче, знаменании воини Христовы »), « Тогож святаго и преподобнаго отца нашего Ефрема покаании и о любви, еже и о крещении и исповедании, и кресту похвала, и о втором пришествии Христове и о будущем суде » (« Ничто же почтемь, любима братье »); за ним следует « Святаго преподобнаго отца нашего Ефрема о втором пришествии Христове слово » (« Възлюбленаа братие, уклонишеися вси злааго пути »). Все эти слова связаны общим источником (Паренесис Ефрема Сирина), и в то же время их объединяет не только общий автор, но и общая тематика – покаяния и Страшного Суда. За этой подборкой сочинений выписан « Въпрос: ради еже бытии некыимь невозможно имущим къ еже неоскудно плакати за немощь телесе », после чего следует первое слово Диоптры. Интересным представляется характер добавления «Плача» в сборник.
Как пишет Н. К. Никольский, произведение это вошло в состав «Третьего сборника игумена Игнатия», по всей видимости, уже после составления описания рукописей Кирилло-Белозерского монастыря, составленного в конце XV в., так как в этом описании он не значится, а глава, следующая после « Въпроса », не соответствует «Плачу» по указанному числу листов [Никольский, 1897. С. 277]. После «Плача» выписаны слова « Преподобнаго отца нашего Ефрема Сирина слово о Антихристе » и отрывок « Ипполита, блаженнеишаго мученика, Папы римскаго слово о скончание мира, и о Антихристе, и втором пришествии » 19 .
Таким образом, можно говорить о намеренном добавлении «Плача» в подборку сочинений о Втором Пришествии и Страшном
Суде, т. е. первое слово Диоптры в «Сборнике игумена Игнатия» существует в том же контексте, что и в Сборнике Тих. 115. Различие заключается в том, что в составе «Третьего сборника игумена Игнатия» эти произведения не пронизывают текст рукописи, а существуют в виде отдельного физического блока.
Следующий сборник, близкий по типу к Тих. 115, – РНБ, КБ № 26/1103, носящий в описании XV в. название «Сборник Фегна-стов». В составе его читаются: первое слово Диоптры, а также « Стих корониев »20 (« Множество человечьское все ») и « Ино-вого » (« Аще небеса, о человече, и облакы достигнеши »). В рукописи эти произведения представляют собой подборку, начинающуюся сочинением « Германа патриарха Цариграда стиси добреиши, къ вине слезней хотящим непрестанно плакатися делании неподобных ».
В описании «Сборника Фегнастова» XV в. последующие произведения не отделены от него, однако Н. К. Никольский расписывает состав этих сочинений. Это « Стих корониевъ », « Инового », « Великаго Василиа Кесариискаго » (« Нагъ изыдохъ на плачь сии, младенец сыи »), « Семеона Новаго Богослова » (« Преже плача и слезъ, ни-ктоже васъ »), « Святаго Нила » (« Первее о приятии слезнемь молися, яко да плачемь умягчиши сущее »), « Великаго Макариа » (« Горе души оной, нерадящои о очищении земля сердца своего, ни молить Владыку »), « Святаго Исаака Сирина » (« Аще схраниши языкъ свои, о брате, даетьтися от Бога даръ »), « Святаго Варсануфиа » (« Еммануилъ, толкуется с нами Богъ »), « О смирении, и о плачи, и о слезахъ » (« Отець етеръ седяще в луце блаженаго Антониа ») 21.
Тематически и стилистически все эти сочинения близки: вполне вероятно, что они воспринимались как состоящее из мелких произведений целое, которое могло выписываться полностью, или из него могли выбраться отдельные части. Первое слово Диоптры, следующее после, тематически очень близко к этой подборке, как и другие произведения, входящие в состав «Сборника Фег-настова».
Подборка фрагментов сочинений отличается от того, что мы наблюдаем в Сборнике Тих. 115, однако принцип их организации схож. Сочинения, тематически близкие, часто переписаны вместе: о посте, о целомудрии, о добродетелях. «Сборник Фегнастов», подобно Тих. 115, имеет «концептуальный» характер и представляет собой душеполезное чтение.
Таким образом, можно говорить о существовании системы таких «концептуальных» сборников (своеобразный литературный канон). Вместе с тем каждый из таких сборников – явление индивидуальное.
* * *
Итак, анализ четьих сборников из собрания библиотек Троице-Сергиевой лавры и Кирилло-Белозерского монастыря позволил отнести Тих. 115 к типу «концептуальных» келейных сборников, составлявшихся для «душеполезного чтения» и имеющих дробный состав. При этом каждый из таких сборников является уникальным. В Сборнике Тих. 115 наблюдаются индивидуальная интерпретация известных текстов и приращение их смысла за счет контекста.
INDIVIDUAL AND TYPICAL ELEMENTS IN THE ANTHOLOGY FOR INDIVIDUAL MONASTIC READING OF THE FIFTEENTH CENTURY
The article analyzes an Anthology for individual monastic reading (chetij keleynyj sbornik) of the fifteenth century as a literary fact. Creative modifications of the Anthology’s canonical base generate its semantic constant. The Anthology is represented as an author’s work in the typological class of books for «ascetic reading».