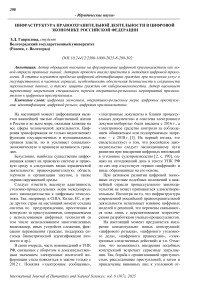Инфраструктура правоохранительной деятельности в цифровой экономике Российской Федерации
Автор: Гаврилова Э.Д.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 8 (107), 2025 года.
Бесплатный доступ
Автор обращает внимание на формирование цифровой криминалистики как новой отрасли правовых знаний. Автором проведен анализ предмета и методики цифровой трасологии. В статье изучается проблема цифровой идентификации граждан при получении услуг в государственных и частных сервисах, необходимость обеспечения безопасности и сохранности персональных данных, а также защиты граждан от кибермошенничества. Автор оценивает перспективу закрепления специального перечня оперативно-розыскных мероприятий применительно к цифровым преступлениям.
Цифровая экономика, оперативно-розыскные меры, цифровые преступления, идентификация, цифровой розыск, цифровая криминалистика
Короткий адрес: https://sciup.org/170210896
IDR: 170210896 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-8-298-302
Текст научной статьи Инфраструктура правоохранительной деятельности в цифровой экономике Российской Федерации
На настоящий момент цифровизация является важнейшей частью общественной жизни в России и во всем мире, оказывая влияние на все сферы человеческой деятельности. Цифровая трансформация не только видоизменяет функции государственных и муниципальных органов власти, но и усиливает социальноэкономическую и правовую активность граждан.
Безусловно, наиболее существенно цифровизация влияет на правовую систему и правовую среду в следующих видах юридической деятельности: правоохранительную, область торговли и организации закупок, а также охрана окружающей среды.
Следует отметить высокую адаптивность уголовно-процессуальных норм международного законодательства к цифровым технологиям. Так, например, в США, Китае, ЕС, и ряде других стран на настоящий момент создана система по предупреждению, пресечению и контролю за преступлениями, совершаемыми с использованием цифровых технологий (в том числе использованием многочисленных видеокамер, иных устройств слежения, фиксации перемещения граждан, поддержка системы биометрической идентификации личности и др.).
В свою очередь, часть нововведений в УПК РФ, связанных с оборотом и доказательственным значением электронных носителей информации стала появляться в законе только с 2012 г. Понятия «электронное сообщение»,
«электронные документы и бланки процессуальных документов» и «система электронного документооборота» были введены с 2016 г., а «электронное средство контроля за соблюдением обвиняемым или подозреваемым запретов» – с 2018 г. [1]. На первый взгляд, это свидетельствует о том, что российское законодательство следует эволюционному пути развития при внедрении цифровых инноваций в уголовное судопроизводство [2, c. 190], однако на сегодняшний день в тексте УПК РФ до сих пор отсутствует термин «цифровой» и иные, образованные на его основе.
При активном развитии цифровой экономики отсутствие подобных положений в важнейшей отрасли процессуального законодательства не может признаваться удовлетворительным. Несмотря на то, что инфраструктура современной российской правоохранительной деятельности испытывает влияние цифровых моделей и решений, эти перемены связываются пока лишь с перспективными теоретическими разработками ученых-процессуалистов.
На настоящий момент предлагается внедрение концептуально новых конструкций: «цифрового розыска», «цифрового уголовного дела», «цифрового правосудия», «электронных следственных действий» и т.п. Отметим, что возможность внедрения подобных конструкций встречает серьезные затруднения. Так, борьба с организованной преступностью, расследование преступлений, а затем и привлечение виновных лиц к уголовной от- ветственности представляют собой сложную аналитическую и организационную работу, именно поэтому в целях упрощения задач человека допускается мысль о передаче части этих функций искусственному интеллекту. При этом, не должна исключаться и значимость совершенствования самой цифровой инфраструктуры статистического учета и расследования уголовных дел, так как передача части функций искусственному интеллекту не гарантирует повышения скорости и качества расследования.
В уголовно-правовой и криминологической сферах требуется модернизация подходов к раскрытию преступлений, в том числе обусловленное появлением цифровой криминалистики как новой отрасли криминалистического знания. На настоящий момент основные проблемы расследования преступлений с применением цифровых технологий заключаются: во-первых, в поиске, регистрации и распознавании цифровых «следов» преступления; во-вторых, в сложностях восстановления нарушенных данных или идентификации лица; в-третьих, в несоответствии законодательного перечня допустимых оперативнорозыскных мероприятий применительно к раскрытию цифровых преступлений (далее -ОРМ). Так, часть цифровых данных может храниться на электронных носителях в материальной форме, однако иные цифровые следы могут «растворяться» в цепочках трафика посредством специальных каналов и средств связи, что может осложнять точное и быстрое установление достоверных данных по факту совершенного преступления.
Цифровой трасологией диктуется требования связанное с качественным повышением уровня цифрового образование и цифровой культуры не только у пользователей сети, по и у работников правоохранительных органов, а также наличия исправно функционирующего профессионального оборудования для обнаружения, изъятия и исследования этих цифровых следов преступления. В связи с тем, что подобные данные могут возникать, реконструироваться и закрепляться только в определенной среде и с применением специальных методов и инструментов, решение большей части задач, связанных с пресечением, предупреждением и профилактикой цифровых преступления зависит от правильных настроек операционной системы и оборудования потерпевшего пользователя. Однако процесс сбора доказательств может быть значительно усложнен в связи с игнорированием со стороны потерпевших правил информационной безопасности: увеличится продолжительность времени, а также затратная составляющая правоохранительной деятельности, может возникнуть необходимость проведения дополнительной компьютерно-технической экспертизы (при том, что законодательная специфика проведения в УПК РФ не выделена и не ясна на технико-криминалистическом уровне).
В связи с активным развитием цифровой экономики возникла проблема восприятия, «навязанного» или же продиктованного виртуальной реальностью (видеокамеры и др. устройства), когда виртуальные образы событий и фактов накладываются на механизмы запоминания и воспроизведения информации свидетелями или потерпевшими, определяя возможность искажения картины совершенного преступления.
Подобные обстоятельства заставляют прибегать к услугам специалистов, оказывающих услуги по оценке таких показаний на достоверность и относимость к делу [3, с. 23]. Полагаем, что разработка мер по выявлению цифровых следов преступления должна затрагивать три основных направления работы правоохранительных органов:
-
1) методики выявления и разграничения следов активности пользователя и следов цифрового преступника (например, история браузера, способ хранения логинов и паролей, наличие защищенных каналов передачи информации и т.п.);
-
2) определения места и времени совершения преступления с применением цифровых технологий, включающее технологии анализа лог-файлов, системных журналов, данных веб- и почтовых серверов и пр., позволяющих четко установить функцию оборудования пользователя в структуре совершения преступления, установив это объект, способ или инструмент совершения преступления);
-
3) технического и юридического определения возможности фиксации цифровых следов преступления. Это касается ситуаций, когда участник блокчейна переводит денежные средства из внутренней среды во внешнюю
систему расчетов (долларов, евро, рублей и пр.), то обнаружение цифрового следа возможно. Примечательно, что полное ведение журнала событий не обязательно по российскому законодательству для администраторов таких саморегулирующихся систем, а предоставление онлайн-доступа к данным операциям правоохранительным органам по законодательству четко определено по отношению к средствам и оборудованию связи, но не к операциям с криптовалютой иди альтернативными финансовыми инструментами. Если операции циркулируют только во внутренней среде блокчейна, то выявить цифровой след реально только при регистрации и нахождении внутри этой сети в порядке оперативного внедрения, что требует дополнительной законодательной или подзаконной нормативной регламентации.
Следующий интересный вопрос расследования преступления в цифровой среде связан с цифровой идентификацией лица, включая цифровую аутентификацию. Сама система распознавания субъектов цифровой экономики по идентификатору (логину) возникла сравнительно давно и использовалась при входе в электронную почту, корпоративные и публичные сервисы. Вместе с тем, именно в период COVID-2019 расширилось применение дистанционных технологий, предопределивших необходимость развития новых форм дистанционной идентификации пользователей. Так, например, сегодня при подаче обращений граждан в органы исполнительной власти с использованием ведомственных сервисов на сайтах, а также иных обращений (например, за получением государственных и муниципальных услуг) широко распространенными стали технологии удаленной идентификации.
Думается, именно эти новые формы взаимодействия людей связаны с возросшей потребностью в безопасности и охране персональных данных граждан в цифровой среде, а также с формированием доверительной цифровой среды между гражданами, обществом и государством. Отсюда следует проблема степени защищенности этих ресурсов и использования мошеннических схем для получения доступа к личным кабинетам российских граждан на Едином портале государственных услуг (далее – ЕПГУ), в банковских приложе- ниях и т.д. На современном этапе в отечественной литературе анализируются достоинства и недостатки существующих технологий идентификации: например, Единая система идентификации и аутентификации, Единая биометрическая система и новые – мобильное приложение «Госключ», видеопоток [4, c. 102].
Так, в России публично обсуждаются трудности, возникающие в связи с обеспечением технологически непрерывной и безопасной работы этих сервисов, а также обсуждается отказ от аутентификации в виде СМС-кода при восстановлении пароля на ЕПГУ, тогда как предусматривается сама возможность хранения всех персональных данных российских граждан в одном «окне» на ЕПГУ. Считаем, что это обусловлено чрезвычайно высокими показателями цифровой преступности, связанной с получением незаконного (несанкционированного) доступа мошенников к частным персональным данным. При этом, европейская практика следует пути развития института цифровых удостоверений личности или же «ID-кошельков». В частности, предлагаются две основные модели: государственная (Government ID-Infrastructure Wallet) и частная (Trust ID Wallet Federation).
Государственная система эмитируется правительствами стран и используется в целях получения базового набора данных личности заинтересованными институтами гражданского общества. В свою очередь, частная система предполагает распределение пользователем части персональных данных между несколькими конкурирующими операторами, которые призваны обеспечить управление этими данными с учетом потребностей и интересов пользователей.
Между тем, европейские исследователи признают несовершенство указанных этих цифровых систем:
-
1) так, например, зачастую возникают противоречия пользовательских данных при взаимодействии государственных и частных структур;
-
2) указываются риски ограничения управления данными только цифровыми платформами;
-
3) должным образом не решена проблема возмездности/ безвозмездности доступа к данным; а также отсутствует единая концеп-
- ция цифровой идентичности личности в публичной цифровой инфраструктуре [5, c. 34].
Интересным представляется предложение о разработки специального перечня ОРМ, применяемых при расследовании преступлений, связанных с нарушением правил безопасной идентификации и удаленного доступа к данным. Например, это отслеживание IP-адресов; настройка оборудования для фото и видеофиксации событий преступления; идентификация неизвестных пользователей в сети; определение места (источника) запуска зараженных файлов. При этом, спорной видится возможность взлома файлов или почтовой корреспонденции на компьютере, мобильном телефоне подозреваемого и т.д.
Считаем, что в данном случае следует принимать во внимание различную степень эффективности указанных мер по разным категориям преступлений. Например, розыск преступника, нарушившего требования охраны интеллектуальных и авторских прав, с целью повышения штрафов за их нарушение и неотвратимости ответственности не работает должным образом и зачастую уступает место экономической эффективности.
Отмечается, что на настоящий момент выгоднее оптимизировать издержки правоохранительных органов на поиск цифровых «пиратов», увеличив временные и технологические затраты на незаконное скачивание авторского контента, на возможность досудебной блокировки сайтов или же снижения цен на платные подписки, что направлено на стимулирование пользователей к соблюдению авторских прав [6, c. 115].
В то же время, проблема заключается также в оценке объема и пределах использования цифровой правоохранительной деятельности в инфраструктуре цифровой экономики. Например, в научной литературе указывалось на предложения по оцифровке оперативной обстановки в целях улучшения мер по борьбе с преступностью. Также предлагается создавать правоохранительные сети для межведомственного обмена информацией, хранения цифровых источников информации вплоть до возможности включения в цифровые сети лояльных граждан для помощи в сборе информации об оперативной обстановке в районе
(городе), расширения биометрической идентификации лиц, обеспечения, распределенного сетевой доступ правоохранительных органов к конфиденциальной информации [7, c. 30].
Безусловно, не со всеми прозвучавшими предложениями можно согласиться. Думается, что специфика оперативно-розыскной и следственной правоохранительной деятельности определяет важность сохранения закрытости и конфиденциальности оперативной информации, поэтому расширение круга лиц, имеющих ней доступ, не всегда обоснованно. Кроме того, ее публичное цифровое хранение повышает риск получения посторонними лицами несанкционированного доступа.
В данном случает наиболее оптимальным представляется эволюционный путь цифровизации правоохранительной системы, когда с помощью дополнительного бюджетного финансирования приобретается новое оборудование, создаются новые цифровые технологии, параллельно с этим совершенствуются различные организационные формы и методы деятельности правоохранительных органов (например, стандартизация подходов к ведению баз данных и учету преступников).
Таким образом, необходимо рационально оценивать преимущества и риски активного развития инфраструктуры цифровой экономики. Сравнительно-правовое исследование отечественной и зарубежной цифровой инфраструктуры правоохранительной направлено на выявление общемировых тенденций и подходов к развитию понятийно-категориального аппарата цифровой инфраструктуры, а также цифровых преступлений и методов, применяемых в целях совершенствования методики их расследования. На современном этапе Российская Федерация придерживается сбалансированного подхода к внедрению элементов цифровой инфраструктуры в традиционную экономическую инфраструктуру: так, например, в отечественной правоохранительной деятельности ведущим субъектом, модерирующим цифровые технологии, остается человек, а главным приоритетом – защита его прав и свобод, а также совершенствование результатов его деятельности с использованием помощи искусственного интеллекта.