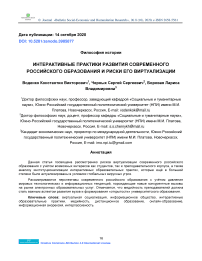Интерактивные практики развития современного российского образования и риски его виртуализации
Автор: Воденко Константин Викторович, Черных Сергей Сергеевич, Боровая Лариса Владимировна
Журнал: Bulletin Social-Economic and Humanitarian Research @bulletensocial
Статья в выпуске: 8 (10), 2020 года.
Бесплатный доступ
Данная статья посвящена рассмотрению рисков виртуализации современного российского образования с учётом возможных интересов как студентов, так и преподавательского корпуса, а также анализу институционализации интерактивных образовательных практик, которые ещё в большей степени были актуализированы в условиях глобальных вирусных угроз. Рассматриваются перспективы современного российского образования с учётом давления мировых технологических и информационных тенденций, порождающие новые конкурентные вызовы на рынке электронных образовательных услуг. Отмечается, что медийность преподавателей должна стать важным аспектом развития вузов и формирования открытости университетского образования.
Виртуальная социализация, информационное общество, интерактивные образовательные практики, медийность, дистанционное образование, онлайн-образование, информационная анорексия, интерпассивность
Короткий адрес: https://sciup.org/14118412
IDR: 14118412 | DOI: 10.5281/zenodo.3985877
Текст научной статьи Интерактивные практики развития современного российского образования и риски его виртуализации
В современных реалиях, напрямую связанных с наличием и распространением глобальных эндемических угроз, интерактивные образовательные практики из разряда вспомогательных технологий перешли в разряд почти «основных», хотя и крайне спорных средств обучения и стали играть доминирующую роль в процессе подготовки учащейся молодёжи к будущей профессиональной деятельности. На деле оказалось, что описание экспансии информационного общества может быть осмыслено, например, в терминах философии Гегеля, а именно когда речь немецкого классика и его последователей заходила о переходе количества (в нашем случае - интенсивное наполнение информационного пространства «сети-интернет») в качество (то есть к событию «информационнотехнологического взрыва»), в результате чего вся ткань социальной жизни и социального пространства подвергается «тотальной» виртуализации. Соответственно в первую очередь перед массовым образованием в возникшей ситуации стоит задача адаптации к сложившимся условиям, исходя из требований сохранения качества обучения в сочетании с использованием «интерактивных» форм подачи материала и контроля знаний.
Таким образом, экспансия информационных технологий привела к тому, что под понятием «виртуальность» стали подразумевать сконструированный сознанием мир, в котором происходит формирование некой «новой» хабитуальности человека, завязанной на почти полной погруженности в мир информационных сетей (в качестве частного и негативного случая этой погруженности можно упомянуть о так называемой проблеме «интернет зависимости»). И если раньше официальные образовательные учреждения могли в той или иной степени абстрагироваться от погруженности студентов в информационные сети, то в условиях сложившейся глобальной чрезвычайной ситуации (в период возникновения и распространения вируса COVID-19) собственно самим институтам пришлось в значительной степени виртуализировать процесс обучающих практик.
Обращая внимание на развитие и активное применение в современной системе образования интерактивных практик, а также учитывая риски, связанные с виртуализацией образования, необходимо также проанализировать, насколько сложившаяся ситуация способна повлиять на процесс институционализации элитарных образовательных услуг и конкуренцию между университетами. В данной связи уже в настоящее время очевидно, что престижные ВУЗы (обладающие наиболее мощным символическим капиталом) способны предложить и более востребованные программы дистанционного обучения для потребителей данных услуг из российских провинций, что в свою очередь может нанести дополнительный удар по привлекательности региональных университетов.
II. ОБСУЖДЕНИЕ
В настоящее время мы продолжаем оставаться свидетелями того, как коммуникации, выстраиваемые между «обычными» людьми и официальными структурами, в большей степени смещаются в виртуальную среду информационного общества, в результате чего само общение всё больше опосредуется различными технологическими средствами, без которых с каждым днём всё труднее представить себе повседневность. Образовательные учреждения, несмотря на консерватизм значительной части профессуры, также оказались на переднем крае виртуализации социальной среды, что повлекло за собой угрозы, связанные с разрушением традиционного уклада преподавательской деятельности. В свете последних глобальных тенденций можно говорить о вполне состоявшемся процессе виртуальной социализации, выступающей неотъемлемой частью (повседневной) жизни современного человека, находящегося, правда, в явной зависимости от информационных сетей и технологий.
Рассуждая о становлении глобального сетевого (и при этом капиталистического) общества, современные французские исследователи Л. Болтански и Э. Кьяпелло отмечают, что «понятие коммуникации сопряжено здесь с проектом вытеснить эссенциалистские онтологии и заменить их своего рода открытыми пространствами, не имеющими ни границ, ни центров, ни опорных точек» (Болтански, Кьяпелло, 2011. С.264). Однако, это не совсем так, поскольку глобальное “сетевое общество”, всё-таки обладает не только множественными и вместе с тем «привилегированными» узлами (точками информационной редистрибуции), концентрирующими, направляющими и перераспределяющими информацию, но и «точками сборки», в которых происходит «производство» наиболее значимого и актуального «контента».
В данной связи интересно отметить, что вышеописанная логика (виртуализации) уже вполне применима ко многим образовательным учреждениям, в том смысле, что степень их эффективности в условиях цифровизации и дистанционного обучения должна быть также связана с возможностями (мощностями) производства нового образовательного контента (необходимо представленного в сети-интернет). В результате университеты могут превратиться в производителей и экспортеров (зачастую напротив преимущественно импортёров) разнообразной информационно-образовательной продукции.
Система образования, таким образом, не представляет собой автономный полюс, способный осуществлять свои функции вне связи интегральных процессов и быстрых изменений, происходящих в обществе. Более того, образование активно вбирает в себя как государственные императивы, так и запросы, идущие со стороны (информационного) гражданского общества. Поэтому, как справедливо отмечал ещё К. Манхейм: «Ни одна система образования не в состоянии поддерживать у нового поколения эмоциональную стабильность и духовную целостность, пока она не имеет общей стратегии с социальными службами, действующими за рамками школы. В наше время лишь во взаимодействии с ними можно контролировать социальные влияния, которые в противном случае дезорганизуют жизнь общества» (Манхейм, 2016. С. 180). Более того, в контексте преобладания практик дистанционного обучения может измениться отношение студентов к своим образовательным учреждениям и их преподавателям, которое может быть существенно скорректировано в сторону восприятия последних в большей степени как умелых и высокоадаптивных информаторов, а не как авторитетных носителей «уникальных» знаний в сочетании с личной харизмой. При этом отечественное образование продолжает находиться в значительной зависимости от государства и властных институтов, что в свою очередь приводит к априорным преимуществам отдельных ВУЗов и целых образовательных кластеров в сравнении с рядом университетов, не обладающих столь значительной государственной поддержкой.
Далеко не во всех случаях человек способен реализовать свои интересы посредством сетевых коммуникаций, тем более он может в какой-то момент разочароваться в собственных коммуникативных возможностях, в результате чего сетевое общение покажется ему «суррогатом» личностного взаимодействия. «К числу фрустрационных факторов относится чувство одиночества, девальвирующее успех, богатство, свободу личности. Глобальные информационные сети в силу своей виртуальной природы, создавая общий “фон” бесконечной доступности разнообразных и часто хаотических контактов, в лучшем случае являются медиаторами, а чаще всего “эрзацами” живого общения, дружеского и родственного участия и сострадания» (Зорина, Музашвили, 2014. С. 8-9). Другое дело, что когда мы рассуждаем о моральных аспектах сетевого взаимодействия важно учитывать, что оно в свою очередь формирует особую сетевую этику, которая зачастую обладает вполне позитивным значением для индивида и его жизни.
В целом социализация посредством электронных сетей, включая поиск работы, сулит множество плюсов, например: высококвалифицированный специалист может без особого труда связываться с потенциальным работодателем. Вместе с тем, сложившаяся ситуация в значительной степени затрагивает и преподавателей без исключения всех ВУЗов, поскольку теперь они должны сами стремится к приобретению большей «медийности» посредством активной деятельности в сети. Вернее сказать о том, что высокий уровень преподавательской «медийности» является выгодным конкурентным преимуществом на современном рынке образовательных услуг.
Соответственно, например, компетентность в сочетании с особого рода харизмой того или иного преподавателя могут оценить не только коллеги и студенты из определенного или нескольких ВУЗов, но и все интересующиеся научной проблематикой пользователи сети интернет.
В связи с этим кафедры и факультеты различных ВУЗов создают вполне официальные паблики на различных информационных платформах, прежде всего на you-tube. Таким образом, оказывается, что современному преподавателю важно репрезентировать свои компетенции в сети-интернет, тем самым превращая образовательный процесс в большей степени в публичное предприятие, которое могут оценить все желающие.
Вместе с тем дефицит живого общения может оказывать довольно негативное воздействие на образовательный процесс, поскольку дистанционные практики обучения носят в значительной степени формализированный характер, который может препятствовать более глубокому уровню понимания между студентами и их преподавателями. Кроме этого, в дистанционном режиме, главным образом при помощи различных вариантов тестовых заданий, оказывается крайне трудно осуществлять реальный контроль знаний студентов (особенно в тех случаях, когда отсутствует актуальная видеосвязь). В данной связи многие преподаватели полагают, что они уже в значительной степени утратили контроль над подготовкой студентов к семинарским занятиям, а в особенности к экзаменам и зачетам. При этом преподаватели в сложившихся условиях могут с трудом выявить выдающихся учеников, интерес которых простирается глубже заявленной образовательной программы.
В целом в рамках образования, всё больше функционирующего в виртуальных условиях, наблюдается антропологический сдвиг, требующий дальнейшего социально-философского осмысления. При этом нельзя отрицать, что студенту для собственного интеллектуального развития также необходимо работать руками, то есть стараться писать от руки. Сюда же относится традиционное конспектирование, написание рефератов и даже ведение интеллектуальных дневников. «Начнем с главного, весьма неоднозначного общечеловеческого следствия – у нас на глазах формируется, фактически, новая антропология, и это происходит в силу ряда причин. Так, при работе с экраном (монитора, гаджета и т.п.), даже при работе с клавиатурой – активируются только зрительные центры мозга. Префронтальные зоны долей мозга не активируются, что приводит к нарушениям памяти, связности речи и всему тому, что отвечает за формирование самосознания. Поэтому и настоятельные рекомендации нейропсихологов – в процессе обучения (и не только!) – почаще читать вслух, писать от руки. В ряде ведущих университетов и в бизнес-тренингах вводятся специальные программы по каллиграфии, игре на музыкальных инструментах, лепке, рисованию. Важны мелкая моторика, писание от руки, устное общение» (Тульчинский, 2020. С.65). Таким образом, способность написать качественную статью для студентов, причём именно гуманитарных специальностей, в большей степени становится элитарной способностью, сопряженной с классическим образованием.
Риски виртуализации образовательной среды во многом сопряжены с издержками самого информационного общества, которые должны быть адекватно восприняты именно как таковые моменты, связанные с платой за технологический прогресс. В данной связи наблюдается усталость от изобилия информации, которая может переходить в радикальный отказ от её постоянной обработки. В данной связи С. Жижек верно, подметил, что на фоне внедрения в общественную жизнь информационных технологий растёт «соблазн дополнить модное понятие “интерактивность” его смутным и довольно жутким двойником понятием “интерпассивность” (Жижек, 2012. С.200). Погруженный в виртуальное пространство индивид не успевает активно перерабатывать поступающую информацию, в результате чего складывается во многом иллюзорное впечатление, что сам гаджет (посредством которого происходит общение в сети) реагирует и обучается как бы вместо человека. Речь идёт о том, что орудие информации начинает «поглощать» человека, демонстрируя один из первых, но зримых этапов антропологической кибернизации. Информационная детерминация может существенно затруднять доступ к окружающей природе, что в свою очередь бросает определенный вызов экологии современного человека. Тем самым запускается новый механизм отчуждения человека от природной реальности, которая может пониматься как своего рода экзотика.
«Не является ли по этой причине одной из возможных реакций на избыточное заполнение пробелов в киберпространстве информационная анорексия , отчаянный отказ от принятия информации, поскольку она закрывает доступ к Реальному?» (Жижек, 2012. С.265).
Но при этом сам радикальный отказ от информации (или информационная анорексия ) может рассматриваться и как форма девиации, особенно когда социальные институты требуют от индивида присутствия в информационном поле. Вместе с тем, значительная часть сил индивида также тратиться не только на запоминание и усвоение предлагаемого материала, но и на селекцию и рубрикацию постоянно предлагаемой разнообразной информации, что в свою очередь приводит к ещё большей сегментации современного общества.
Избыточность информации как бы естественным образом приводит к пресыщению, но стоит только человеку на какой-то период времени отлучиться от своего гаджета или компьютера, он снова ощущает информационный голод. Несмотря на то, что в современном обществе люди получили беспрецедентный доступ к информации, зачастую мы можем фиксировать усталость от неё и даже можем говорить об информационном насилии, от которого индивид стремится избавиться, но при этом не обладает волей для того, чтобы отключиться от сети, или попадать в неё дисциплинированным образом по строгому расписанию. С другой стороны само общество всё в большей степени требует от индивида, чтобы он погружался и как можно чаще применял современные цифровые технологии, в особенности, когда речь идёт о его собственной безопасности и безопасности окружающих. В соответствии с новыми требованиями безопасности индивид должен по доброй воле ставить себя под непрекращающийся надзор современных систем контроля поведения.
III. РЕЗУЛЬТАТЫ
Уже сейчас очевидно, что так называемые интерактивные практики будут играть всё более важную роль в процессе обучения и воспитания специалистов будущего века. При этом от студентов, обучающихся профессии, может потребоваться большая заинтересованность в образовательном процессе, а главное вырастет потребность в самообразовании. Вместе с тем, виртуализация образования приведёт с одной стороны к его эгалитаризации, сделав его более доступным, в том смысле, что почти все образовательные программы будут доступны в видео-формате, но с другой стороны этот же процесс будет способствовать повышению ценности «традиционных» форм семинарских занятий и лекций, в рамках которых будет осуществляться взаимодействие учеников и профессуры лицом к лицу. Таким образом, аудиторно-контактное обучение может со временем приобрести статус элитарной образовательной практики (доступной далеко не для всех желающих).
В результате дальнейшего развития “сетевого (виртуального) общества” от самих студентов потребуется большая самостоятельность в выборе специальных и наиболее интересных курсов. По крайней мере, речь идёт в первую очередь о гуманитарных предметах, освоение которых не предполагает специфических лабораторных занятий. «Принудительная форма образования, - как полагает Ф.Э. Шереги, - утратит свою актуальность и перерастёт в самообразование (перманентное образование), основанное на информационном обмене» (Шереги, 2015. С.25). По крайней мере, целые образовательные сегменты станут функционировать именно по такому принципу – массового консультирования, осуществляемого посредствам электронных сетей и соответствующих информационных платформ. В соответствии с вызовами времени профессура должна будет перейти к созданию авторских пабликов, способных также приносить дополнительный доход. «Доминирующей будет такая форма образования, как информирование . Образование станет перманентным (всеобщим); и эксплуатация, уже в виртуальной форме, “выйдет” за пределы функционирующего общества. Это будет эксплуатация живущим поколением облечённого в информацию знания как овеществлённой духовной деятельности прошлых поколений » (Шереги, 2015. С. 25). На этом фоне важно обратить внимание на то, что сам преподаватель может уделять больше времени импровизации, чтобы придать онлайн выступлению особый интерес.
Однако, даже несмотря на самые радикальные и футуристические прогнозы в отношении массового высшего образования можно предположить, что живое общение в контексте образовательных практик сохранит решающее значение в рамках подготовки высококлассных специалистов (Лубский, Ковалёв, 2020).
В целом можно не согласиться с видением будущего образования, изложенного в цитируемой выше статье известного отечественного социолога Ф.Э. Шереги, поскольку информация и собственно знание далеко не всегда являются тождественными понятиями, точно также как известное (причём зачастую то, что находится у всех на виду или на слуху) зачастую не является понятым (или «строго» постигнутым в своём понятии). В контексте рассматриваемой нами темы правильно также отметить, что студенты как правило, проходят задания посредством смартфонов, зачастую находясь в обстановке, которая не сильно настраивает на погружение в предлагаемый материал. Речь также не идёт во многих случаях о полноценном чтении бумажных (объёмных) изданий, которое заменяется просмотром актуальной информации (последняя даже не переписывается, не конспектируется, а копируется и вставляется в соответствующий элемент задания). Таким образом, по причине того, что студенты уже не выпускают гаджеты из рук, они сами начинают воспринимать эти устройства как продолжение собственного тела, в котором содержится вся необходимая им, в том числе и научная информация, освоенные лекции или семинарские занятия.
Таким образом, с ростом интерпассивности прогрессирует склонность считать, что обладание информацией уже само по себе является знанием. В данной связи современный отечественный философ Г.Л. Тульчинский также считает, что «в настоящее время знание все больше (в том числе - в системе образования) понимается как просто информация, данные, а не как информация осмысленная. Нужно же отличать информацию как некую меру разнообразия и знание как осмысленную информацию, что предполагает достаточно серьезную работу с интерпретацией данных. Онлайн-образование, например, практически сводит все “знание” к обладанию некими навыками по поводу доступа к определенным данным, то есть к какой-то информации. И - не более. Задача не только студента, но и ученого - сформировать или получить доступ к неким данным и воспользоваться алгоритмом их обработки» (Тульчинский, 2020. С.65-66). Таким образом, в рамках онлайн-образовательных практик не всегда может быть достигнут необходимый уровень интериоризации доступных знаний, находящихся на виду, но при этом в должной степени не рефлексируемых даже в процессе просмотра качественных презентаций. Тем более важно отметить, что онлайн-образование может быть ещё менее эффективным, если речь идёт о подготовке технических специалистов, которые постоянно должны взаимодействовать с необходимым оборудованием (а не только рассматривать его на экране монитора).
Вместе с тем, в контексте рассмотрения интерактивных образовательных практик необходимо различать такие формы как: дистанционное образование; электронное образование; онлайн-образование и «традиционное» аудиторно-контактное образование, которое правда само включает в себя использование различных гаджетов и электронных презентаций. «Для дистанционного образования важно наличие информационного посредника, ради чего оно и инсталлировалось в свое время в образовательную систему. В то же время онлайн - образование имеет общее и с электронным обучением, так как его дистанционный характер реализуется с обязательным применением электронных средств связи, которые, собственно, и обеспечивают единовременность коммуникации между субъектами образовательного пространства. Однако мы не можем считать онлайн-образование разновидностью электронного. Оно отличается от последнего тем, что источником информации при онлайн-взаимодействии выступает педагог, а не электронный носитель информации. В этом плане оно близко к аудиторно-контактному образованию» (Ковалев, Касьянов, Манучарян, 2020. С. 77). В данной связи можно говорить о том, что в некоторых аспектах преподавательской деятельности разрыв между «виртуальным» и «реальным» не столь велик и обладает рядом вполне устойчивых аналогий.
Оказывается, что многие преподаватели, особенно те из них, кто считают себя представителями так называемой интеллектуальной региональной элиты, высказывают беспокойство по поводу электронного обучения, которое может подорвать их позиции на рынке образовательных услуг. Пожалуй, что речь идёт не столько о выживании преподавательского состава высшей школы как класса, но, по крайней мере, о довольно сложном процессе адаптации к новым условиям.
«Сейчас мы стоим на пороге утраты институтом образования доверия к нему со стороны социума. Если не остановить прогрессирующее ухудшение качества, социальный контракт, основанный на вере студента и его родителей в способность преподавателя давать социально полезную информацию может быть расторгнут, и общество повернется в сторону электронного обучения.
И, интересно, понимают ли сторонники электронного обучения, что источником создания информации, в том числе для машины, всегда выступает человек. Если резко сократить количество людей, создающих информацию, то машину окажется нечем заправлять» (Васьков, Ковалев, Гафиатулина, 2020. С. 52). Действительно, позиции профессора в качестве транслятора наиболее уникальной информации в условиях экспансии информационного общества в значительной степени поубавились (речь идёт в первую очередь о гуманитарных дисциплинах) поскольку в интернете можно обнаружить лекции и выступления ведущих профессоров столичных и иностранных университетов.
IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, виртуализация социального пространства предстаёт как амбивалентный процесс, в котором выгоды информационного общества оборачиваются рисками информационной анорексии, интерпассивности , которые могут приводить к различным формам девиантного поведения (включая бегство от реальности) и психической фрустрации, связанные с потерей сетевой идентичности. В тоже время дополненная реальность также является важным средством конструирования собственной (позитивной) идентичности, что помогает студентам справиться с рядом возрастных проблем, включая дефицит признания собственных заслуг в кругу сверстников и значимых других. Но в той же степени виртуализация образования касается и преподавателей, которые должны, по крайней мере, в ближайшей перспективе всё больше времени уделять работе над собственной медийностью, тем самым делая образовательное пространство ВУЗа более «открытым». В данной связи важно финансово поощрять преподавателей, активно работающих над усилением своей медийности. При этом сами университеты также превращаются в производителей информационно -образовательного контента, годного для дальнейшей трансляции, конкуренции и экспансии на рынке образовательных услуг.
Вместе с тем, необходимо работать не только над оригинальностью собственного материала, но и над его большей «удобоваримостью» для электронного формата. Но это, к сожалению, не значит, что способные работать в традиционном формате на очень высоком уровне преподаватели смогут полностью и причём «безболезненно» перестроиться к требованиям большей виртуализации образовательного пространства (в особенности это касается представителей старшего поколения педагогов, которые всё больше нуждаются в помощи со стороны ассистентов и лаборантов). Однако, с другой стороны, развитие дистанционного образования с учётом «самоизоляции» и ограничений на живое общение со студентами предоставляет больше времени для работы над собственным профессиональным профилем и содержанием авторских лекций. При этом в информационном обществе возможно намного легче определиться с научными референтами, на которых стоит ориентироваться в своей исследовательской практике.
V. БЛАГОДАРНОСТИ
Статья выполнена в рамках реализации гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки ведущих научных школ Российской Федерации (НШ-2582.2020.6) на тему «Государственная политика в сфере высшего образования и развитие инновационного потенциала молодежи: экономические и неэкономические детерминанты и механизмы в условиях регионализации социального пространства и становления индустрии 4.0».
Список литературы Интерактивные практики развития современного российского образования и риски его виртуализации
- Болтански Л., Кьяпелло Э. Новый дух капитализма. М.: Новое литературное обозрение, 2011. 974 с.
- Васьков М.А., Ковалев В.В., Гафиатулина Н.Х. Онлайн-образование в высшей школе России: основные факторы институционализации и социальные последствия // Гуманитарий Юга России. 2020. Том. 9. № 3. С. 45-57.
- Жижек С. Чума фантазий. Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2012. 388 с.
- Зорина Е.В., Музашвили Д.З. Россия и глобализация: проблемы ценностной трансформации сознания личности // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. 2014. № 4. (16). С. 4-9.
- Ковалев В.В., Касьянов В.В., Манучарян А.К. Онлайн-образование в высшей школе России: фактор разрушения или источник развития? // Гуманитарий Юга России. 2020. Том. 9. № 3. С. 72-91.
- Лубский А.В., Ковалев В.В. От «онлайнизации» высшей школы к онлайн-образованию // Гуманитарий Юга России. 2020. Том. 9. № 2. С.33-50.
- Манхейм К. Идеология и утопия. Диагноз нашего времени. М.: Юристъ, 1994. 700 с.
- Нечепоренко Л.С. Педагогика личности: Учебное пособие. Харьков: ХГУ, 1992. 113 с.
- Ростунов А.Т. Формирование профессиональной пригодности. Минск: Высш.шк.,1984. 176 с.
- Сейтешев А.П. Профессиональная направленность личности. Алма-Ата: Наука Каз. ССР, 1990. 336с.
- Сорокин П.А. Социология как наука. // Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. 542 с.
- Тульчинский Г.Л. Трансформация этоса профессуры: цифровизация как контекст кризиса // Ведомости прикладной этики. 2020. № 55. С. 64-71.
- Устьянцев В.Б. Проблема становления социального. Изд-во Саратовского ун-та, 1982. 173 с.
- Шереги Ф.Э. Образование как социальный институт: функции и дисфункции // Россия реформирующаяся. 2015. № 13. С. 12-36.
- Ядов В.А. Социологическое исследование. Методология, программа, методы. Самарский ун-т, 1995. 331 с.
- Якобсон П.М. Психологические проблемы мотивации поведения человека. М.: Просвещение, 1969. 317 с.