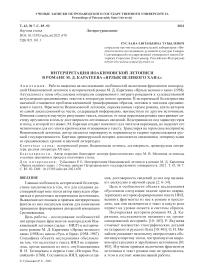Интерпретация Иоакимовской летописи в романе М. Д. Каратеева "Ярлык великого хана"
Автор: Тубылевич Руслана Евгеньевна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Литературоведение
Статья в выпуске: 7 т.43, 2021 года.
Бесплатный доступ
Работа нацелена на исследование особенностей включения фрагментов новгородской Иоакимовской летописи в исторический роман М. Д. Каратеева «Ярлык великого хана» (1958). Актуальность темы обусловлена интересом современного литературоведения к художественной актуализации средневековых текстов в литературе нового времени. В исторической беллетристике значимой становится проблема адекватной трансформации образов, мотивов и эпизодов средневекового текста. Фрагменты Иоакимовской летописи, пересказанные героем романа, взяты автором из самой дискуссионной ее части, содержащей информацию, неизвестную по другим источникам. Понимая сложную научную репутацию текста, писатель от лица персонажа романа выстраивает систему аргументов в пользу достоверности летописных сведений. Подстраивая их под характер героя и эпоху, в которой тот живет, М. Каратеев создает понятного для читателя персонажа, но наделяет его нетипичным для его эпохи критическим отношением к тексту. Транслируя на героя свое восприятие Иоакимовской летописи, автор пытается опровергнуть норманнскую теорию происхождения русской государственности. Картина древнерусской истории дополняется сведениями, почерпнутыми из средневековых хроник и научной литературы.
Исторический роман, иоакимовская летопись, достоверность, древнерусская литература, русская литература xx века
Короткий адрес: https://sciup.org/147236216
IDR: 147236216 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.15393/uchz.art.2021.670
Текст научной статьи Интерпретация Иоакимовской летописи в романе М. Д. Каратеева "Ярлык великого хана"
Главная особенность исторической беллетристики заключается в том, что для создания достоверной картины эпохи автор вынужден обращаться к различным историческим источникам. Выявление источников и приемов интерпретации фактов из них писателем важны для понимания принципов формирования авторской концепции Средневековья.
Цель работы – исследование особенностей интерпретации фрагментов новгородской Иоа-кимовской летописи (далее – НИЛ1) в историческом романе М. Д. Каратеева «Ярлык великого хана» (1958) из цикла «Русь и Орда» (1958–1967). Специфика объекта исследования обусловлена тем, что целостного текста НИЛ не сохранилось, кроме выписок из него, опубликованных В. Н. Татищевым в первом томе «Истории Российской» (1768). Составитель НИЛ, время созда- ния, достоверность сведений до сих пор вызывают дискуссию в научной среде [2: 6–34].
Цель и особенности объекта исследования обусловили следующие задачи: кратко охарактеризовать историю формирования текста НИЛ, выявить фрагменты из нее в романе и проследить, как они включаются в текст и какую роль играют на уровне сюжета и системы образов.
Подчеркивая историзм романов М. Д. Ка-ратеева, исследователи называют их «романизированной историей» [10: 403]. Р. Якушева отмечает множество этнографических деталей из татарского и русского быта [10: 401]. О. Н. Михайлов указывает на попытку автора создать объективную картину эпохи, построенную на широком круге русских и зарубежных источников [10: 405]. Изучение приемов включения фрагментов источника в текст романа еще не проводилось, в этом и состоит новизна нашей работы.
ТВОРЧЕСТВО М. Д. КАРАТЕЕВА В КОНТЕКСТЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРОЗЫ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ
Литературовед О. Н. Михайлов относит Михаила Дмитриевича Каратеева (1904–1978) к «младшему», «незамеченному»2 поколению первой волны эмиграции [10: 26]. В 1920 году, будучи кадетом, он эмигрировал из России сначала в Югославию, а затем в Болгарию. Как и его ровесники, сделавшие себе литературное имя уже за границей, чтобы заработать на жизнь, он вынужден был заниматься тяжелым физическим трудом. Добившись стипендии на учебу в Лёвенском католическом университете и получив диплом инженера-химика и степень доктора химических наук, в 1933 году из-за экономического кризиса он уезжает в Латинскую Америку. Именно в этом очаге русской эмиграции были написаны исторические романы М. Д. Каратеева.
Как отмечает М. О. Рубинс, литературное творчество русских эмигрантов в странах Латинской Америки мало изучено [15: 14]. Тем не менее представителей первой волны эмиграции, оказавшихся в чужой культурной среде, объединяло стремление сохранить историческую память, язык и культурные традиции для будущего возрождения России [12: 123]. Ту же функцию должна была выполнять и историческая проза.
Развитая в исторических романах идея патриотизма и «повышенная фактологическая оснащенность» [21: 41] по-разному проявлялись в текстах писателей, которых относят к младшему поколению первой волны. Можно выделить два подхода в их работе с источниками. Первый – метод М. А. Алданова (Ландау) (1886–1957) – выведение на первый план вымышленных персонажей и «напряженный сюжет (заговоры, убийства, покушения)», который дополнен «политикофилософскими размышлениями автора» [10: 337]. Второй подход применял А. П. Ладинский (1896–1961), который стремился если не к «документальной правде» [10: 86], то к достижению «исторической достоверности» [19: 398].
М. Д. Каратеев соединяет оба подхода. Для придания «увлекательности» повествованию он вводит «хитросплетение заговоров и тайных злодеяний, неожиданное узнавание в незнакомце родственника, близкого человека, разрешение безвыходного положения внезапной помощью извне, запретная любовь и др.» [10: 403]. Вместе с тем, как отмечал сам писатель, в его произведениях «история действительно преобладает над романом» [4]. Это связано с просветительскими задачами, которые он ставил перед собой: «ознакомить читателя с историей нескольких второстепенных русских княжеств»
и «правильно осветить некоторые исторические факты, искаженные нашими летописцами3 или же неверно истолкованные их комментаторами» [4].
ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ М. Д. КАРАТЕЕВА
Интерес к русской истории играл важную роль в литературном творчестве М. Д. Каратеева. Как отмечал сам писатель, он не разделял «нигилистических точек зрения на историю Руси» [18: 154] и поддерживал тезис о самобытности ее исторического пути. С этим напрямую связаны три вопроса, впоследствии затронутые в его романах. Во-первых, это теория о норманнском происхождении русской государственности. Одной из причин ее возникновения М. Д. Ка-ратеев считал поверхностный подход к летописному материалу, в результате которого одни летописи не учитывались, а другие неверно ис-толковывались4. В сборнике очерков «Из нашего прошлого» (1968) он говорит о пренебрежительном отношении к русским эмигрантам за гра-ницей5 как о главном последствии норманизма, содержащем, по его мнению, дальнейшую угрозу единству и суверенитету русского государства. Второй вопрос, намеченный в очерке «Русь и татары», связан с взаимоотношениями Древней Руси и Золотой Орды. Не смягчая тяжелого положения Руси в период обострения этих отношений, он отмечает и положительное влияние ига на Русь (тяжелые условия жизни ускорили сплачивание отдельных княжеств в единое го-сударство6) и пишет о тесных кровных и культурных связях, которые проявились в «богатом [татарском] наследстве» в области политики, науки и культуры»7. Наконец, в вопросе возвышения Московского княжества Каратеев придерживался принципиальной точки зрения: главная заслуга принадлежит Дмитрию Донскому, «славному русскому государю и национальному герою, чьим гением Русь была выведена из феодального хаоса на прямой великодержавный путь»8.
Эти исторические взгляды писателя отразились в его романах, идейную направленность которых исследователи определяют как «промо-сковскую», «антинорманистскую» и «единодержавную» [12: 283].
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ТЕКСТА ИОАКИМОВСКОЙ ЛЕТОПИСИ
Обнаружение НИЛ и дальнейшая судьба ее текста подробно изложены в работе С. Н. Аз-белева [2: 10–28], мы остановимся лишь на некоторых аспектах.
По содержанию и характеру изложения исследователи делят текст НИЛ на две части: «этнографическое вступление» о первых князьях до Рюрика и правление следующих русских князей до Владимира I [8: 99]. Сведения первой части, отсутствующие в других летописях, вызвали спор о ее достоверности и датировке. Мнения исследователей разделились: одни считают, что НИЛ была создана в XVII–XVIII веках, другие утверждают, что она была начата при первом новгородском епископе Иоакиме [8: 98].
С вопросом датировки связана проблема формирования текста летописи. Один из сторонников древности летописи, С. Н. Азбелев, намечает три гипотетических этапа развития текста НИЛ. Первый этап – начало летописи (XI век) на основе предполагаемого, но не дошедшего до нас повествования о первых русских князьях, а также устных преданий о предыстории Новгородской земли [2: 31–34]. Второй этап (1439 год) – добавлены указания о составителе летописи, доработана вступительная часть с помощью фольклорного материала, поднимающего престиж Новгорода. На третьем этапе, в 1699 году, был изготовлен новый список НИЛ, сделанный не очень тщательно, с утратой двух листов [2: 33–34].
Как отмечал сам В. Н. Татищев, он работал не с полным текстом НИЛ, а с тремя фрагментами из нее, пронумерованными цифрами 4, 5, 6 [17: 52]. Переписывая из нее то, чем она отличается от «Повести временных лет», историк не всегда прибегал к цитированию, иногда пересказывал, вносил частные правки и комментировал [2: 6]. В ходе работы текст неоднократно корректировался Татищевым, и В. М. Моргайло выделяет несколько редакций текста с его правками [11].
В научных кругах отношение к частям НИЛ было различным. Если некоторые сведения из второй части летописи все же были подтверждены данными археологии и зарубежными источниками [2: 24–25], то факты первой воспринимались как легендарные. По мнению историков, она «соответствует нередким в польских и русских исторических сочинениях XVI–XVII веков псевдогенеалогическим построениям» [8: 99]. Исследователи обнаруживали в ней следы «бродячих сюжетов» (С. Н. Азбелев, А. Л. Топорков), скандинавских саг (Б. Клейбер, С. В. Конча), попытки создать народную генеалогию по образцу польских и чешских хроник (П. А. Лавровский, С. К. Шамбинаго). Именно эту наименее достоверную часть и использовал в своем романе М. Каратеев.
ВКЛЮЧЕНИЕ ФРАГМЕНТОВ ИОАКИМОВСКОЙ ЛЕТОПИСИ В РОМАН М. Д. КАРАТЕЕВА
Роман «Ярлык великого хана» повествует об одном эпизоде политической борьбы в рус- ских княжествах первой половины XIV века. Главный герой – карачевский князь Василий Пантелеймонович – лишается своего удела из-за интриг его дядьев и их поддержки ханом Золотой Орды. Он понимает, что обелить свою репутацию перед негативно настроенным ханом ему не удастся, и в том случае, если он добровольно не уедет из своего княжества, его заставят силой, попутно разорив Карачев. Его положение осложняется, когда он убивает главного заговорщика (своего дядю Андрея), тем самым выразив неповиновение воле хана. Желая избежать дальнейших осложнений, он едет в единственное место, где хан Узбек не имеет власти, – в Белую Орду. По дороге он заезжает в Муром, где несколько дней гостит у князя Юрия Ярославича.
Оба персонажа романа – исторические личности, о которых сохранились достаточно скудные летописные сведения. Князь Василий упоминается в летописях один раз – в связи с убийством им звенигородского князя Андрея [3: 80]. О муромском князе говорится в местной летописи в контексте его деятельности по восстановлению Мурома после княжеских усобиц, обновления храмов и снабжения их книгами и иконами [1: 66].
Имеющиеся летописные сведения становятся сюжетообразующими узлами в романе, но приемы их разработки автором различны. В случае с муромским князем Каратеев идет по пути расширения сведений летописи, создавая образ знающего несколько языков «деятельного, умного и напористого человека, немало поездившего по чужим землям и многому научившегося»9. Автор добавляет от себя информацию о нескольких годах, проведенных в Византии, о семейной жизни Юрия Ярославича. Биографию Василия Пантелеймоновича писатель достраивает на основе семейных преданий, так как князь был его предком. Этот материал добавляет в сюжетную линию Василия авантюрно-романтические эпизоды (обреченная на неудачу любовь изгнанника к его «нареченной невесте» муромской княжне Ольге, соперничество с чингизидом Хи-саром-мурзой за руку красавицы Фейзулы в Белой Орде).
Пребывание князя Василия в Муроме также развивается в авантюрном ключе. По пути в Орду он спасает дочь муромского князя Ольгу Юрьевну от разбойников, нанятых мордовским князем для ее похищения. Приглашенный в Муром благодарной княгиней, он называет себя карачевским боярином Василием Романовичем Снежиным. Юрий Ярославич подозревает о том, кем на самом деле является его гость, и, заметив взаимную склонность Василия и Ольги, решает отвлечь карачевского князя.
Во время беседы с Василием князь Юрий рассказывает свою версию истории Руси, в которой на первом плане оказывается тема «одного корня» всех русских князей и их общего долга перед предками и Русью. Основные «факты» концепции князя Юрия позаимствованы автором из «этнографического вступления» НИЛ: эпизоды расселения князя Славена и его народа, правления Владимира и его сыновей, войны князя Буривоя с варягами и княжения Гостомысла. Рассказ сопровождается критическим комментарием князя, который делит материал «этнографического вступления» на две части: на «старые сказы» и на сведения, которым «уже можно ве-рить»10. К первым он относит, например, эпизод расселения племен Славена и Скифа:
«Были будто бы в незапамятные времена два могучих князя, Славен и Скиф, братья родные, которые повоевали все земли по Дунаю и по берегу Понта, как называлось тогда Русское море. После того Скиф, со своим племенем, осел в Таврии и в землях промеж Днепром и Волгой, а Славен, оставивши на Дунае князем своего сына Бастарна, сам пошел на полночь и, дойдя до берегов Варяжского моря и Ильмень-озера, поставил там великий город Славянск…»11.
Фрагмент сопровождается объяснением Юрия Ярославича, связывающего имена князей и этнонимы («Вестимо, все эти старые сказы надобно понимать инако: не князья такие были, а наро-ды…»12). Такая интерпретация несколько опережает свое время. Обычным ходом мысли при создании этнонимических преданий было возведение имени народа к имени военачальника, князя [16: 13], что сохраняется и в исторических сочинениях XVI–XVII веков. Даже Иван IV, занимавшийся «конструированием фальшивых генеалогий» о предке Рюрика Прусе, оправдываясь, писал: «…коли уж Пруса на сем свете не было, почему ныне называется Прусская земля, от ково она то прозвище взяла?» [14: 114]. Трактовка, предложенная князем в романе, вероятно, взята из «Истории Российской» В. Н. Татищева [17: 62] и отражает научные взгляды человека другой эпохи, с иным типом сознания.
Вторая часть сведений, по мнению муромского правителя, более достоверна. Они начинаются с рассказа о правлении потомка князя Славена, Владимира, жена которого Адвинда была «от варяг»: «И вот, сдается мне, что, беря от этой княжеской четы, всему, о чем дальше повествует Иоаким, уже можно верить»13).
Дальнейший краткий пересказ проигранной войны сына Владимира – князя Буривоя – с варягами и освобождения русской земли от нор- маннского ига благодаря Гостомыслу точно передает сведения НИЛ и не снабжен критическими комментариями. При этом аллегоричный сон новгородского князя о плодоносном древе, вырастающем из чрева его дочери, который предрекает рождение Рюрика и процветание его рода, никак не интерпретируется Юрием Ярославичем.
В книге исторических очерков М. Д. Карате-ева «Из нашего прошлого» (1968) такое условное деление текста на две части отражает авторское видение НИЛ. Писатель указывает на «правдоподобие» этих сведений: «…начиная с княжеской четы Владимир – Адвинда <…> сведения Иоакима, хотя их и нельзя считать достоверными, все же приобретают вполне правдоподобный характер»14. Материал НИЛ до них сам Каратеев (как и его герой) осторожно называет «по большей части легендарным»15.
Одной из особенностей включения пересказа текста НИЛ в роман является его вступительная часть, аргументирующая правдоподобие летописных сведений. Ее необходимость обусловлена ненадежностью летописи как источника в научной среде, а также политическими взглядами самого автора романа. В частности, М. Д. Ка-ратеев резко критикует норманнскую теорию, видя в ней причину пренебрежительного отношения к русским со стороны зарубежных стран. Автор выстраивает систему доказательства, которую читателю излагает его персонаж. Князь Василий, как и большая часть читателей романа, историю Руси знал только по «Повести временных лет». Аргументы князя Юрия сформулированы максимально просто, понятно и доказательно. Например, опровергая норманнскую теорию, он говорит, что Гостомысл не мог призвать врагов (варягов) на княжение, так как совсем незадолго до этого изгнал их из Руси: «…это все одно было бы, что погубить начисто дело своей жизни и по доброй воле сызнова сунуть голову в нурманское ярмо!»16. Понятными читателю были и сведения о частых войнах с варягами, известные по древнерусским источникам. Князь Юрий знает и о новгородской летописи, в которой есть упоминание о войне Буривоя с варягами («…Все это нам вточию ведомо, ибо запись о том осталась в новгородской летописи…»17). Часть доводов князя основывается на его лингвистических наблюдениях. Первый касается отсутствия скандинавизмов в русском языке («…нурманы в ту пору письмо уже знали, как же могло случиться, что на Руси не осталось ни единой грамоты, ни единой строки, писанной их языком?…»18). Второй обращен к эволюции термина «варяг» и к происхождению племени русь. Персонаж полагает, что варягами раньше «звали всех, чьи земли выходили к Варяжскому морю»19. Доводы о расширении значения термина «варяг» и об упоминании племени русь в арабских источниках изложены в книге очерков М. Д. Каратеева20. Вместе с тем суждение об отсутствии скандинавизмов21 в древнерусском языке [6: 22], по-видимому, автор почерпнул из работы С. А. Гедеонова «Варяги и Русь» (1876), которая была им высоко оценена22. Система аргументов муромского князя, с одной стороны, вполне понятна читателю ХХ века, ее введение в текст обусловлено просветительскими задачами М. Д. Каратеева. С другой стороны, она методологически невозможна для человека XIV века, который не мог быть специалистом в области истории, этнографии и лингвистики.
Еще одной особенностью встраивания текста НИЛ в роман М. Д. Каратеева можно считать дополнение ее сведений материалом, принадлежащим к эпохе древней истории. Мы имеем в виду упоминание о князе русов Бравлине, пограбившем в VIII–IX веках греческий город Амастриду, историю о славянских племенах по рекам Одеру и Эльбе и рассказ об острове Рюгене. Источники этих сведений различны, но все их можно отнести к намеренным свидетельствам23 (по классификации М. Блока). Сведения о славянах по рекам Одеру и Эльбе и их быте на острове Рюген до эпохи немецкой колонизации встречаются в средневековой анналистике (хроника Титма-ра Мерзебургского, сообщения Адама Бременского, «Славянская хроника» Гельмольда из Босау, «Деяния данов» Саксона Грамматика) [7: 10]. Говоря в очерках о балтийском происхождении варягов, автор упоминает работы антинорманистов и В. К. Тредиаковского, которые, судя по всему, и были его научным подспорьем24.
Источником эпизода о князе Бравлине могла быть только русская версия «Жития Стефана Сурожского» (XIV–XV века) – греческого памятника, который сохранился в трех «вариантах»: греческом сокращенном, армянском и русском. Имя Бравлин, как и указание на то, что этот князь был из Новгорода, есть только в русской версии жития. В греческой версии его нет, а в армянской князя зовут Правлис, и в ней отсутствуют указания на его русское происхождение [5: 221]. Поэтому достоверность сведений именно о русском князе сомнительна. Привлеченный автором материал позволил дополнить карти- ну быта славянских племен в древности и представить читателю более убедительную картину донорманнского прошлого Руси.
Творческая обработка материала НИЛ проведена на трех уровнях: системы образов, сюжета и идеи. На уровне системы образов фрагменты НИЛ использованы для характеристики и муромского князя, и его собеседника прежде всего как государственных деятелей, людей, патриотизм которых основывается не только на чувствах, но и на знаниях, на уважении к своему прошлому, к своим корням. Малодостоверный с точки зрения ряда исследователей текст НИЛ встраивается в идейный замысел романа и всего цикла «Русь и Орда», посвященного проблемам становления русской государственности.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Новгородская Иоакимовская летопись как исторический источник остается текстом достаточно спорным. Ее сомнительная репутация в научной среде обусловила необходимость прибегнуть к своеобразному доказательству достоверности ее отдельных сведений при включении ее пересказа в роман. Создание системы убедительных аргументов осложнялось скудостью сведений об изображаемой эпохе25 и требовало введения персонажа, от лица которого она звучала бы логично. Им становится муромский князь Юрий Ярославич – начитанный человек и полиглот, который строит всю сопровождающую пересказ НИЛ систему доказательств с опорой на знание языков, данные летописей и исторических сочинений. Не имея точных сведений об этом герое, автор тем не менее приписывает ему знание греческого, скандинавского, татарского языков и истории Руси. Кроме того, наделяет героя несвойственным средневековому человеку критическим отношением к летописям. Благодаря этим – вымышленным полностью или позаимствованным из сомнительных источников (НИЛ) – материалам автору удается создать объемную и насыщенную панораму жизни древних славян, привлекая информацию, почерпнутую из западных хроник и русской версии «Жития Стефана Сурожского». Материал НИЛ становится важным источником не только для раскрытия образов главного героя – кара-чевского князя Василия – и его собеседника, но и двигателем сюжета, так как подготавливает дальнейшее развитие действия.
Список литературы Интерпретация Иоакимовской летописи в романе М. Д. Каратеева "Ярлык великого хана"
- Аверьянов К. А. К вопросу о «белых пятнах» в средневековой истории Мурома // Уваровские чтения - V: Материалы науч. конф., посвящ. 1140-летию г. Мурома (14-16 мая 2002 г., Муром). Муром: Стерх, 2003. С. 66-70.
- Азбелев С. Н . Устная история в памятниках Новгорода и Новгородской земли. СПб.: Дмитрий Бу-ланин, 2007. 296 с.
- Беспалов Р. А. «Новое потомство» князя Михаила Черниговского по источникам XVI-XVIII веков (к постановке проблемы) // Проблемы славяноведения: Сб. науч. ст. и материалов. Вып. 13. Брянск: Изд-во БГУ, 2011. С. 63-97.
- Бойко де Семка В . Михаил Каратеев // Русские в Уругвае: История и современность. Монтевидео, 2009. С. 169-185 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://clck.ru/VjZhP (дата обращения 25.05.2021).
- Виноградов А . Ю., Коробов М. И. Бравлин - бранлив или кроток? // Slovene. 2017. № 1. С. 219-235.
- Гедеонов С. А. Варяги и Русь: Разоблачение «норманнского мифа». М.: Эксмо: Алгоритм, 2011. 352 с.
- Иванова - Бучатская Ю. В . Plattes Land: Символы Северной Германии (cлавяногерманский этнокультурный синтез в междуречье Эльбы и Одера). СПб.: Наука, 2006. 226 с.
- Конча С. В . Скандинавские элементы Иоакимовской летописи и вопрос о ее происхождении // Древняя Русь: Вопросы медиевистики. 2012. № 3. С. 98-111.
- Лобин А. М. Романы о Древней Руси Б. Л. Васильева как новый виток эволюции исторический прозы на рубеже XX-XXI веков // Филологический класс. 2016. № 4 (46). С. 69-73.
- Михайлов О. Н. Литература русского зарубежья. М.: Просвещение, 1995. 432 с.
- Моргайло В . М. Работа В. Н. Татищева над текстом Иоакимовской летописи // Археографический ежегодник за 1962 год. М.: Изд-во АН СССР, 1963. С. 260-268.
- Мосейкина М. Н. «Рассеяны, но не расторгнуты»: русская эмиграция в странах Латинской Америки в 1920-1960 гг.: Монография. М.: РУДН, 2011. 384 с.
- Николаев С. Л. К этимологии и сравнительно-исторической фонетике имен северогерманского (скандинавского) происхождения в «Повести временных лет» // Вопросы ономастики. 2017. Т. 14. № 2. С. 7-54.
- Петрухин В . Я. Миф, история и вымысел в русских средневековых преданиях о происхождении власти // Предания и мифы о происхождении власти эпохи Средневековья и раннего Нового времени: Материалы конф. М.: Индрик, 2010. С. 113-115.
- Рубинс М. О. Литература «первой волны» в культурно-историческом аспекте // Литература русского зарубежья (1920-1940). СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2013. С. 9-43.
- Соколова В . К. Русские исторические предания. М.: Наука, 1970. 289 с.
- Татищев В . Н . История Российская: В 3 т. Т. 1. М.: АСТ: Ермак, 2005. 568 с.
- Филатова А. И. Каратеев Михаил Дмитриевич // Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги: Биобибл. словарь: В 3 т. М.: ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2005. Т. 2. З-О. С. 153-154.
- Филатова А. И. Ладинский Антонин Петрович // Русская литература XX века. Прозаики, поэты, драматурги: Биобибл. словарь: В 3 т. М.: ОЛМА-ПРЕСС Инвест, 2005. Т. 2. З-О. С. 397-398.
- Циммерлинг А. В. Не пересекая границ: древнескандинавский язык в Древней Руси // Пересекая границы: межкультурная коммуникация в глобальном контексте: Сб. материалов I Междунар. науч.-практ. конф. (14-16 февраля 2018 г., Москва). М.: Гос ИРЯ им. А. С. Пушкина, 2018. С. 294-297.
- Юдин В. А. Исторический роман русского Зарубежья. Тверь: Тверской гос. ун-т, 1995. 124 с.