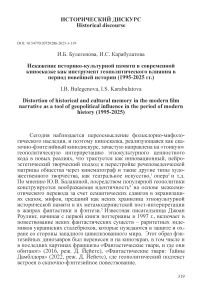Искажение историко-культурной памяти в современной киносказке как инструмент геополитического влияния в период новейшей истории (1995-2025 гг.)
Автор: Булегенова И.Б., Карабулатова И.С.
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Исторический дискурс
Статья в выпуске: 3 (85), 2025 года.
Бесплатный доступ
Сказочный кинодискурс формирует и трансформирует общественно-политическое сознание общества, перекодируя лингвокогнитивную матрицу реципиентов вследствие использования компрессии в эмотивной подаче информации. Впервые ставится задача выявления поликодовых эмотивных маркеров сказочно-фэнтезийного кинодискурса, в котором содержится «веер» скрытых и явных этносоциокультурных и информационных конструктем/деструктем пролонгированного характера, эволюционирующих в метамодернистской ситуации Постправды, что является трансформированным типом современной пропаганды с применением цифровых средств нейроэстетики. Сказка в цифровую эпоху переживает новый расцвет благодаря возможностям искусственного интеллекта, которые позволяют визуализировать фантастическо-сказочные элементы. Это сближает современный сказочно-фэнтезийный кинодискурс с ранее наработанными практиками фольклора и художественной литературы, демонстрируя значимость мифолого-мистического компонента в современной психолого-информационной войне гибридного типа. Гипотеза: сказочно-фэнтезийный кинодискурс обладает мощным эмотивным потенциалом воздействия, который трансформирует концептуальную ценностную матрицу кинореципиента благодаря мультимодальному и поликодовому представлению информации. Кроме того, авторами впервые обозначается проблема автоматизации выявления лингвосемиотических маркеров персуазивной эмотивности в сказочном кинодискурсе. По мнению авторов, это позволяет решать междисциплинарные задачи верификации особенностей трансформации этнокультурного ценностного кода в ситуации «мягкого» воздействия переводного кинодискурса в современной пропаганде на основе сложных метаграфов.
Эмотивный потенциал, поликодовые маркеры, цифровая гуманитаристика, сказочно-фэнтезийный кинодискурс, современная психолого-информационная война
Короткий адрес: https://sciup.org/149149224
IDR: 149149224 | DOI: 10.54770/20729286-2025-3-319
Текст научной статьи Искажение историко-культурной памяти в современной киносказке как инструмент геополитического влияния в период новейшей истории (1995-2025 гг.)
I.B. Bulegenova, I.S. Karabulatova
Distortion of historical and cultural memory in the modern film narrative as a tool of geopolitical influence in the period of modern history (1995-2025)
Сегодня наблюдается переосмысление фольклорно-мифологического наследия, и поэтому киносказка, реализующаяся как сказочно-фэнтезийный кинодискурс, зачастую направлена на «тонкую» геополитическую интерпретацию этнокультурного ценностного кода в новых реалиях, что трактуется как инновационный, нейро-эстетический творческий подход к перестройке речеповеденческой матрицы общества через кинематограф и такие другие типы художественного творчества, как театральное искусство,1 опера2 и т.д. По мнению Ю.В. Балакиной, посредством популярной геополитики конструируется воображаемая идентичность4 на основе межсемиотического перевода за счет семантических сдвигов в экранизациях сказок, мифов, преданий как неких хранилищ этнокультурной исторической памяти в их метамодернистской пост-интерпретации в жанрах фантастики и фэнтези.5 Известная писательница Джоан Роулинг, начиная с первой книги поттерианы в 1997 г., включает в повествование неких фантастических существ – раритетных эндемиков украинских сталебрюхов, которые нуждаются в защите и охране со стороны западного цивилизованного мира. Этот образ фэнтезийных динозавров был перенесен и на киноэкран, в том числе и в последних картинах франшизы «Фантастические твари, и где они обитают» (2016, реж. Д. Йейетс), «Фантастические твари: Тайны Дамблдора» (2022, реж. Д. Йейетс), где геополитический подтекст встроен в сказочно-фэнтезийное повествование.
Киносказка и фэнтези апеллируют к ценностному коду языка и культуры, трансформируя личность кинореципиента, при этом знание устного народного творчества помогает адаптировать устойчивые мифологемы к современной повседневной жизни благодаря ассоциативной силе воображения при восприятии сказочного кинодискурса. В этой связи образы «геополитических врагов» имеют выраженную эмоциональную окраску, что диктуется самими условиями психолого-информационной войны6, потому что осуществляется интенсивный поиск новых ключевых символов культурной памяти в современных условиях.7
Сказочно-фэнтезийный дискурс оперирует матрицами этносо-циокультурного поведения, которые подвергаются сильной трансформации под воздействием внешних факторов нейротаргетинга и социальной инженерии.8 Использование мифологических, сказочных образов в современной психолого-информационной войне (типа: орочья правда, эндемичные украинские сталебрюхи / украинские драконы-железнобрюхи и др.) базируется на фундаментальной концепции остранения В.Б. Шкловского.9 Эта система позволяет оперировать данными разнообразных творческих экспериментов с повествовательными формами культурной памяти, смещая акценты в фокусировке повседневности за счет специфики повествования, трансформируя хронотоп в сторону нестандартных сюжетных и композиционных параметров для усиления влияния на восприятие обыденности, выступая речеповеденческой матрицей в интерпретации сказочно-фэнтезийного кинодискурса.
В современной психолого-информационной войне учитывается важность ключевых параметров этнокультурного ценностного кода патриархальных традиционных обществ, к которым относятся страны Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе Китай, Россия и Казахстан. В связи с этим использование жанра сказок и фэнтези приобретает новый масштаб, определяемый исследователями как геополитическое фэнтези.10
Так, в украинской экранизации сказки А.С. Пушкина «Руслан и Людмила: перезагрузка» (2018, реж. О. Маламуж), казахстанском фэнтези «Жезтырнак» (2024, реж. А. Матжанов) авторы продвигают идеи «жесткого» феминизма за счет трансформации женских образов, вошедших в ядро ценностного кода этноса, приближая к транснациональному пониманию общечеловеческой картины мира,11 унифицируя этнокультурный идеал женщины, стирая его уникальные черты.
В то же время, с момента своего появления в Китае в 1920-х годах, кинодискурс сам по себе начал воплощать сказку на экране,12 позиционируясь, прежде всего, как культурный феномен прошлого.
Следует отметить, что кинематограф появился в Китае благодаря русско-китайской интеграции в 1904-1905 годах, постепенно набрав популярность под влиянием китайской культуры «театра теней» благодаря рекламе искусства «живых фотографий», или «электрических теней» ( 电影 , diànyǐng, дяньинь), что изначально актуализировало дискурс киносказки в китайской аудитории. Благодаря такому позиционированию даже в местном документальном кино был отдан приоритет фиксации и репрезентации примеров народного творчества в виде шаманских ритуалов, религиозных песнопений и т.д. (например, кинохроника «Тайлаган, публичное жертвоприношение иркутских бурят-монголов», 1904 г., реж. П. Копцев). Кроме того, первые эксперименты китайского кинематографа также коррелировали с форматом китайского сценического искусства, восходящего к китайской мифологии, с четкой регламентацией сложившегося репертуара ролей, в котором было четыре амплуа героев с распределением по конкретным характеристикам, сочетающим символизм и условность изображаемого действия по возрасту, профессии, полу, социальному статусу. В этом плане показательна одна из первых картин «Чжуан-цзы испытывает свою жену» (1913, режиссеры Б. Поласки, Ли Минвэй) с использованием традиционного распределения ролей в китайском театре, в котором мужчина исполнял главную женскую роль. В этом новаторском фильме мужчина играет женскую роль в соответствии с китайской сценической традицией.13 В то же время исследователи указывают на прогрессивный характер этого фильма, поскольку впервые в этом фильме женщина появилась в эпизодической роли горничной.14
На заре своего зарождения кинодискурс использовал сказочные сюжеты, которые впоследствии легли в основу таких жанров, как мистический триллер и фильм ужасов, которые обрели новую жизнь в современных условиях киносказки и фэнтези («Вампиры средней полосы», 2021 – 2022; «Чебурашка», 2023; «Последний богатырь», 2017 – 2024; «Царевна-лягушка», 2025;»Баксы», 2008; «Бременские музыканты», 2024; «По щучьему веленью», 2023 и т.д.). Культура сценической традиции пропаганды продолжилась в современном дискурсе фэнтезийного мюзикла. Так, в мюзикле «Последнее испытание» (2024, композитор А. Круглов, либретто Е. Ханпире) провозглашается своеобразный манифест современного времени: «Героям – подвиг! Подонкам – повод! Юнцам посулим боевую славу! Надежду – нищим! Голодным – пищу! И каждый из них обретёт то, что ищет! Всё даст им война!». При этом образ черного мага Рейстлина Маджере, который настроен ликвидировать любые «нечистые расы», имеет отсылку к фашиствующим лидерам разных эпох, что является особо актуальным в условиях противостояния
России с недружественными странами и взаимными обвинениями в применении практик фашизма как общепризнанного маркера Зла в цивилизационном масштабе.
Современное кинотворчество обладает рефлексивными функциями, поэтому кинематографический нарратив можно рассматривать как «зеркало», отражающее внутренний мир человека, его стремления и мечты.
Помимо «прямых» экранизаций народных сказок, фильмы разных лет активно используют разнообразные сказочные мотивы, отсылки, образы, что позволяет осуществлять прямую коммуникацию с подсознанием реципиента фильма, в результате чего исследователи относят сказочный кинодискурс к потенциально опасным дискурсам, требующим пристального внимания со стороны регулирующих органов.15
Сказочно-фэнтезийный дискурс опирается на визуальное воздействие в сочетании с повествовательными приемами, актуализирующими социальные и геополитические проблемы, а также осмысление ценностей семьи и взаимоотношений человека с окружающим миром. Эпоха метамодерна обозначила приоритет стратегий ментальной войны, в которой основное поле для сражений представляет внутренняя картина мира человека.
Нейроэстетический посыл сказочно-фэнтезийного кино имеет свою когнитивную специфику, обусловленную изначальной целевой установкой измерения воздействия красоты на реципиента прекрасного / ужасного. Сама стилистика фэнтези и сказки отличается насыщенностью нюансировки в деталях, яркостью цветовой палитры, разнообразием фантастических элементов. Нейротворчество в стилистике сказочно-фэнтезийного кинодискурса использует поликодирование и многомерность изложения, что позволяет потенциально синтезировать его с различными образовательными и пропагандистскими процессами, а эмоциональность передачи информации в кинодискурсе сказки придает достоверность, закрепляя целевую направленность и убедительность. Эта особенность получила широкое распространение в современной психолого-информационной войне и в ситуации информационного обеспечения разного рода конфликтов между странами16. Рассмотрим уровни нейроэстетики, по которым проводятся идеи современной пропаганды в первой мировой цифровой войне.
Обширный нарратив сказочно-фэнтезийного кинотекста охватывает большое архетипическое пространство, поскольку сказки являются средоточием мифологических элементов, накопленных за тысячи лет, которые могут активизировать коллективную память региона или нации.17 Метамодернистский подход позволяет осуще- ствить перенос идей одной эпохи в другую. Так, в современной ки-носказке «Царевна-лягушка» (2025, реж. А. Амиров) превращение лягушки в прекрасную девушку происходит благодаря тому, что лягушка ловит ртом выпущенный мяч для гольфа, поцелованный главным героем. И вот уже каноническая сказочная стрела русской сказки превращается в современный мяч для гольфа западного мира. В то же время постоянное «забывание» главной героиней причины влюбленности в Ивана Царевича и поиск смысла любви подспудно ставит вопрос о привлекательности «западного флёра» в русской картине мира, актуализируя спор «западников» и славянофилов.
Сказочность, по мнению исследователей, является основополагающим принципом в таких жанрах, как мифология, фольклор, легенды, сказки, эпические произведения.18 Кинодискурс позиционируется как пример синтетического искусства, сочетающего слово, музыку, визуализацию, поэзию и пластику как режиссерских, так и сценарных решений фильма19.
Современный сказочно-фэнтезийный кинодискурс перегруппировывает известные мифологические и сказочные объекты за счет приписывания им инновационных, нехарактерных черт, открывая эти объекты заново для декодирования и атрибутирования, вследствие чего реципиент испытывает радость узнавания в состоянии стимуляции дофаминовой системы. В связи с этим современная пропаганда конструирует новую картину мира на основе как бы хаотичного набора объектов, предметов и их признаков, подстегивая эмоции возбуждения и удовольствия. Так, центральной фигурой в этом сложном полидискурсивном метаграфическом пространстве является киногерой, воплощенный на экране, являющийся информационной мишенью киносказки. В связи с этим исследователи подчеркивают, что существует фиксация на восприятии персонажа в зависимости от его внешности и голосовых характеристик, что влияет на перцепцию действий героя в сознании реципиентов на пара-вербально-невербальном уровне. Именно этот прием был показан в кинофильме «Плутовство»/ «WagtheDog»/ «Хвост виляет собакой» (1997 г., реж. Б. Левинсон) как метод социального инжиниринга.
Нейроэстетика сказочного и фэнтезийного киноискусства как нельзя лучше реализует задачи современной пропаганды, используя визуализацию метафор для беспрепятственного подключения к архетипам бессознательного, в связи с чем предпочтительной становится интенсивная гиперболизация, которая также активирует стимуляцию выброса дофамина как индикатора предвкушения удовольствия. Киносказка и фэнтези продолжают традицию использования легенд и мифов с социальными целями насаждения морали и нравственности, благодаря чему историко-культурный капитал прошлого встраивается в систему современного повествования средствами кино» как воспоминания о мифологическом прошлом, когда герои воплощали качества, недоступные пониманию простых смертных»20.
Эволюция общества трансформирует сами мифы как историко-культурные артефакты, поскольку возникает необходимость подвести архетипическую платформу под новую реальность современных сообществ, в которых возникают новые социальные ценности, в результате чего происходит интеграция истории прошлого с новыми формами повествования, являясь действенной иллюстрацией трансформации мифологизации исторического факта в логосе, а через него в художественной литературе, кино и современных игровых дискурсах «цифровых двойников» реальности21.
Возникающий контраст между привычным образом архетипического образа и его новым воплощением отсылает к прототипическим условиям выживания в новой и/или агрессивной среде окружающего мира, демонстрируя вариативность возможной опасности. Вместе с тем контрастность помогает разделить фон и фигуру на нем, поэтому появляется четкая контрастность в позиционировании положительных и отрицательных героев в киносказке и фэнтези. Например, Кощей Бессмертный – всегда в черных и темных одеждах, также как и Баба Яга. Даже корона на голом черепе Кощея выполнена из металла стального цвета (2017, «Последний богатырь», реж. Д. Дьяченко), также как и в киносказках знаменитого советского режиссера киносказок А. Роу. При этом в цветных иллюстрациях советского периода к сказкам А. С. Пушкина, где присутствует образ Кощея Бессмертного, он изображен в виде скелета в золотой короне и парчовых одеждах. Такая подача создавала контраст между «тленом» материальных богатств и бесхитростностью извечных сил Добра. Современные положительные образы Василисы Премудрой, Ивана Царевича, Ильи Муромца представлены в светлой одежде с яркими элементами (красная лента, красные сапоги, белая рубаха, светлые волосы и т.п.). Эти устойчивые мифологические образы, реализующиеся в современном сказочно-фэнтезийном кинодискурсе, беспрепятственно преодолевают защитные барьеры человеческого сознания, благодаря коллективному эмоциональному интеллекту, продуцируемому нашим бессознательным посредством использования коллективной языковой картины конкретного этноса, активируя предвкушение наслаждением знакомых эпичных битв Добра и Зла.
Китайские исследователи отмечают, что «персонажей фильма можно рассматривать как инструменты для понимания медиакультуры. Считается, что символы состоят из двух элементов: означающего и эксплицируемой информации. Вместе они составляют язык фильма, обладающий как внутренним, так и внешним выражени-ем».22 Так, сюжеты фильмов о Царе обезьян объединены сценами, имеющими символическое значение: чаще всего рассматривается его 500-летнее заточение в Пятипалой горе. Пятипалую гору можно рассматривать как символ Будды Чжулай, а золотое кольцо, которое носил молодой монах, – знак теократического наказания за бунт Сунь Укуна против верховенства Неба. Я.А. Комлева и М.А. Кравцова видят параллель между китайской культурой и христианской мифологией: запретный плод персика, который Сунь Укун съел в романе, является архетипом, встречающимся во многих культурах и отсылающим к саду Адама и Евы.23 Ян Юань отметил «матричное» построение взаимоотношений персонажей в фильме «Король обезьян» (2015, реж.Тянь Сяо Пэн) и других фильмах, основанных на этом мифологическом сюжете24.Так, в ряде киносказок о Сунь Уку-не этот центральный образ для историко-культурной памяти всей Юго-Восточной Азии подан с западными чертами шута в клоунской маске, отражая динамику публичной политики США к Китаю в 6070-х годах ХХ века25. Возникающая четко очерченная контрастность предметов с символическим значением усиливает геополитические цели такого кинодискурса на основе нейроэстетического принципа контраста.
Соответственно, присутствие сказочно-мифологических элементов в современном кинодискурсе сказки и фэнтези включает в себя эту верхнеуровневую модель истории супергероя как ролевой модели для реципиента, что становится важным в эпоху исторических сломов эпох и перемен. Так, в киносказке «Финист. Первый богатырь» (2025, реж. Д. Дьяченко) подчеркивается демонстративная трансформация черт положительного героя Финиста в отрицательного, усиливая негативную русскую этноидентичность у реципиента. Это происходит за счет позиционирования героя как слабого, сомневающегося, но с большим самомнением и гордыней, хвастающегося победами над заведомо слабыми противниками, любующегося своими внешними данными и одеждой. Такой нелицеприятный портрет русского богатыря конструируется с помощью устойчивых штампов западного кино, зафиксированных в таких фэнтезийных кинофильмах, как «Мумия» (1999, реж. С. Соммерс), «Дикий Дикий Запад» (1999, реж. Б. Зонненфельд)», Первый мститель» (2011, реж. Дж. Джонстон), «Капитан Марвел» (2019, реж. А. Боден, Р. Флек), «Железный человек» (2008, реж. Дж. Фавро)», Невероятный Халк» (2008, реж. Л. Летерье), «Тор» (2011, реж. К. Брана)», Локи» (2021, реж. Дж. Бенсон, А. Мурхед, К. Фарахани, К. Херрон, Д. де Леуу) и др. Использование спецэффектов, характерных для диснеевских киносказок, нацелено на нивелирование этнокультурной специфи- ки национального фольклора, поэтому главный киногерой Финист показан в костюмах с псевдорусской орнаменталистикой в стилизации, близкой к азиатскому Востоку. Кроме того, происходит изменение локуса проживания и совершения подвигов героя, отличных от русской фольклорной картины мира. Соответственно, возникающий метамодернистский хаос нацелен на переструктурацию внутренней картины мира кинореципиента, подтверждая, что основным «полем войны» в новейший период времени является система этнокультурного ценностного кода, воспроизводящаяся в историко-культурной памяти как отдельного индивидуума, так и всего этноса.
Контрастность сложного метаграфа пропагандистской нейроэстетики сказочно-фэнтезийного дискурса включает в себя встроенные графы таких решений, как свет, цвет, панорама, элементы звука, движение, что позволяет создать полноценный сценический образ нереального пространства, обладающего, тем не менее, реальной силой воздействия на кинореципиента. Эмоциональность воздействия возникает в результате сочетания различных видов искусства с использованием цифровых средств, создающих иллюзию адекватного отражения реальности.27
Концентрация внимания на действиях главных героев в ки-носказке и фэнтези трансформирует восприятие остальных киноперсонажей в качестве фона, благодаря которому образ киногероя становится более реалистичным и значимым, подчеркивая значимость роли личности в создании мифологических событий как актов истории, а предугадывание его поступков также задействует дофаминовую систему поощрений в мозге реципиента, направляя развитие эмоционального интеллекта в определенном векторе28. Такой изоляционистский выборочный подход обусловлен эволюцией ресурсов головного мозга, выступая «мягкой силой» пропаганды в сказочно-фэнтезийном кинодискурсе современности. Сама по себе компетенция выделения главного среди схожих объектов на нейролингвистическом уровне также подкрепляется дофаминовой системой вознаграждения, способствуя на «глубинном» уровне трансформации внутренней картины мира реципиента.
Вместе с тем, распознавание на элементарном уровне не включает в мозге нейробиологические системы поощрения и наказания, требуя повышения уровня сложности для включения дофаминовых «наград»29. В связи с этим нейроэстетические уровни воздействия сказочно-фэнтезийного кинодискурса при декодировании балансируют на грани между очевидно простыми понятиями прошлого и сложными пост-интерпретациями настоящего, поддерживая между ними оптимальное соотношение для усиления интереса и вовлеченности у целевой аудитории, формируя у последней дофаминовую зависимость30. В общественном сознании этот процесс иллюстрируется мониторингом динамики ассоциативных пространств, связанных с тем или иным киноперсонажем. Например, в ходе ассоциативных экспериментов в студенческой среде Китая в 2023-2024 гг. было выяснено, что популярный в Юго-Восточной Азии образ СуньУкуня – Царя обезьян – подвергается «расшатыванию» матрицы социально одобряемого поведения мифологического киногероя в ракурсе пропаганды в сторону негативизации, вследствие чего наблюдается серьезная поляризация в оценках персонажа (табл.1). Такие ассоциаты, как «герой», «Китай», «анимация», «история» и «божество», неоднократно встречаются в ответах респондентов с преимущественно положительной оценкой. Более того, среди ассоциаций слово «герой» оценивается как в положительном, так и в отрицательном значении (герой и антигерой), что свидетельствует о расширении ассоциативного поля образа Царя обезьян из известного кинофэнтези» Путешествие на Запад» (2013, реж. С. Чоу, Д. Квок).
|
Ассоциативные оценки мифологического кинообраза Царь обезьян |
|||||
|
Значение |
оценка |
Значение |
оценка |
||
|
(+) |
(-) |
(+) |
(-) |
||
|
英雄 / yīngxióng/ герой(суперге-рой) |
175 |
25 |
恶魔 /èmó/ демон |
0 |
124 |
|
中国 /zhōngguó/ Китай |
124 |
0 |
法力 /fǎlì/ волшебная сила |
5 |
87 |
|
动画 /dònghuà/ анимация |
86 |
14 |
巫术 /wūshù/ колдовство |
4 |
86 |
|
喜欢 / xǐhuān/ нравится |
84 |
0 |
山 /shān/ гора |
25 |
48 |
|
国产 /guóchǎn/ родной, местный |
83 |
11 |
力量 / lìliàng/ сила |
23 |
40 |
|
希望 / xīwàng/ надеяться |
78 |
0 |
故事 /gùshì/ сказка |
20 |
30 |
|
心中 / xīnzhōng/ в сердце |
24 |
1 |
唐僧 / tángsēng/ танский монах |
14 |
28 |
|
历史 /lìshǐ/ история |
23 |
9 |
火眼金睛 / huǒyǎnjīnjīng/ огненные глаза и золотистые зрачки |
12 |
20 |
|
封印 /fēngyìn/ запечатывать |
16 |
24 |
和尚 / héshàng/ монах |
10 |
20 |
|
期待 / qīdài/ ждать |
16 |
20 |
混沌 / hùndùn/ Хаос |
0 |
20 |
|
长生不老 / chángshēngbùlǎo/ бессмертный |
16 |
0 |
金箍棒 / jīngūbàng/ золотой обруч |
8 |
15 |
|
无所不能/ wúsuǒbùnéng/ божество |
14 |
2 |
傻丫头 /shǎyātóu/ глупая девчонка |
4 |
14 |
|
七十二变 / qīshíèrbiàn/ семьдесят две трансформации (Сунь Укуня) |
8 |
4 |
黑魔法 /hēimófǎ/ черная магия |
0 |
10 |
|
形象 / xíngxiàng/ образ |
8 |
2 |
伪装成朋友的敌人 /wěiz-huāngchéngpéngyǒude-dírén/ враги, маскирующиеся под друзей |
0 |
6 |
Табл.1. Ассоциативные оценки мифологического героя Сунь Укуня в кинореализации
Разработка новой концепции лингвоинформационной передачи эмоционально заряженных образов в пространстве сказочно-фэнтезийного фильма предполагает рассмотрение его как многоуровневой сущности, выступающей в качестве синтеза когнитивного, аксиологического и мотивационного (деятельностного) компонентов посредством перевода концептуальных понятий сказочно-фэнтезийной мифологии в кинодискурсе, который ориентирован на успешное внедрение трансформированных стереотипов в общественное сознание. В связи с этим этнокультурная речеповеденческая матрица становится полностью объяснимым конструктом с четким механизмом воспроизводства, а потому переходит из области абстрактной метафизики в область реального моделирования.31
Соответственно создаются вариативные линии интерпретации, которые могут быть описаны с помощью вероятностного матема- тического прогнозирования с составлением сложных графовых си-стем.32
«Веер» эмоциональных оценок, присущих конкретному социальному коллективу, позволяет уйти от абсолютной симметрии, которая воспринимается как нечто искусственное, чужеродное и неживое, а потому не представляет интереса вследствие своей предсказуемости. В связи с этим материал для анализа увеличивается в геометрической прогрессии, и поэтому возникает необходимость решить еще ряд проблем: что в данном случае становится отправной точкой, какой аксиоматический ряд берется за основу, как полученные результаты могут быть использованы для теоретических построений в понимании сценического искусства с точки зрения политической психолингвистики.33
Именованные сущности, выраженные киноперсонажами, а также географическими, историческими и социальными локусами в киносказке, ассоциируются с определенными триггерными зонами в общественном сознании целевой аудитории, выступая решаемыми задачами коллективного киноавтора как проводника «мягкой силы». В том, как исследователь, практик кинодискурса определяет сам феномен киносказки и/или фэнтези, т.е. независимо от того, исходит ли он из принципов драматургии или априори считает, что опыт в кинематографе является основополагающим, моделируются вероятностные принципы реализации эмоционального воздействия через реализацию роли актером в сказочном кинодискурсе. В связи с этим необходимо различать маркеры в паре «реальный актер – проецируемый киногерой/образ» и в специфике работы режиссера с актерской группой, сценарной группой и т.д. В рамках наших задач важно, чтобы на прагматическом уровне были отмечены эмоционально нагруженные единицы, коммуникативные стратегии» настойчивости» и «суггестивности» киногероя.
И соответственно ведущую роль в нейроэстетике сказочно-фэнтезийного дискурса играет визуальная метафора как ведущий маркер невербальной коммуникации34. В языке пропаганды метафора занимает центральное место благодаря тому, что помогает выразить эмоции посредством символов и знаков, тренируя коллективный эмоциональный интеллект. Например, такие голливудские фантастические фильмы со сказочно-мифологической составляющей, как «Водный мир» (1995, реж. К. Рейнольдс), кинофраншиза «Люди Икс» (2000 – 2024), сериал «Матрица» (1999-2021, реж. Л. и Э. Вачовски), рассматривают конец света через искаженную призму религиозных апокалиптических интерпретаций, хотя и игнорируют некоторые характерные черты апокалиптических текстов с негативной эмоциональной составляющей. Эмотивная значимость колоро- нимных метафор35 играет ключевую роль в интерпретации цвета, выступая маркером «мягкой силы» воздействия на эмоциональную сферу кинореципиента, управляя его системой социально регулируемого поведения.
Сказочно-фэнтезийный кинодискурс геополитической пропагандой акцентирует внимание на следующих основных стратегиях: 1) моделирование «приглушенного» фатализма, в котором глобальная катастрофа предотвращается с помощью человеческой изобретательности, научного прогресса и героизма; 2) позиционирование человека-мессии, который борется с природой, машинами или инопланетянами; 3) устранение/игнорирование/обесценивание божественного элемента, но не религиозной символики или языка; 4) ссылка на связь науки с эсхатологией, а также на предполагаемое спасение через светское эсхатологическое использование науки и героизма; 5) переструктурирование архетипических образов и придание им новых непривычных черт. Использование визуальных метафор при этом помогает собрать воедино разные смыслы за счет расширения эмоционально-ассоциативного поля, в котором включены индивидуальный и коллективный эмоциональный опыт на уровне эпигенетики, а также культурно-исторический капитал.
Соответственно эмотивный потенциал рассматриваемого кинодискурса базируется на таких нейроэстетических принципах, как: 1) группирование по заранее заданным параметрам кино персонажей, деталей фона и локациям, аудиально-звуковым и световым решениям; 2) четкое структурирование «ядра» и «периферии» кинопространства; 3) повышение уровня сложности для декодирования реципиентом с применением историко-культурных отсылок; 4) использование четких симметричных конструктов в моделировании (типа оппозиции «свой – чужой»); 5) расширение пространства для гиперболизации в изображении киногероев, локаций и их деталей; 6) насыщенность цвето-световых решений эмотивности; 7) расширение метафоричности и ассоциативности на невербальном, пара-вербальном и вербальному ровнях; 8) отслеживания маркеров «глубинного» реагирования на предъявленный тип кинодискурса.
Эти основные нейроэстетические принципы актуализируют вероятностные возможности геополитического и социального инжиниринга в ментальных войнах XXI века за счет применения ней-рогуморальных систем поощрения и наказания, действующих на «глубинном» уровне, вызывая симпатию и/или антипатию у целевой аудитории.
Сказочно-фэнтезийный дискурс, как правило, затрагивает религиозно-мировоззренческий аспект, рассматривая миф как форму религии, которая выполняет аналогичные функции эмоционального контроля над массовым сознанием, поскольку фильмы стремятся «овладеть человеческим сознанием, чтобы контролировать тотальную, суетливую жизнь нашего сознания. Фильмы могут обладать семиотическим потенциалом в удовлетворении нашей потребности в трансцендентности, предлагаемой мифологией, обеспечивая сакральное или магическое вмешательство в качестве нового вида ритуальной игры в техногадание».36
Перенося акцент с религии на миф в сказочно-фэнтезийном кинодискурсе, коллективный киноавтор моделирует актуальность и коммерческий успех конкретного фильма. Например, фильм-фэнтези «Властелин колец» основан на отсылках к скандинавской мифологии. Точно так же образ Гарри Поттера привлекает внимание зрителей благодаря западноевропейскому сюжету, полному магии и колдовства. Действие фэнтезийного сериала «Сумеречная сага» разворачивается в современном американском городе, но связанная с ним восточноевропейская мифология о существах-призраках (вампирах) привлекает широкую аудиторию. Китайские мифы, казахский фольклор, как и западные волшебные истории, создают особое пространство с имитацией реализма для создания собственных киногероев и повествования о кинокультуре. «Мягкая сила» сказочно-фэнтезийного дискурса использует игровое повествование, в котором острота сюжета подчеркнута сложными характеристиками киноперсонажей с затрагиванием острых социальных тем, чтобы удовлетворить потребности в эмоциональных переживаниях целевой аудитории.
Нейроэстетическая природа эмотивности современного сказочно-фэнтезийного кинодискурса является ключом для применения новых возможностей социального инжениринга посредством поли-кодового воздействия на психоэмоциональную сферу реципиента, позволяя понять способы доступа к внутренней мифологической картине мира с помощью нейролингвистических систем поощрения и наказания, присущих всему живому как скрытого базиса «мягкой силы» кино в современных нейрокогнитивных информационных войнах. Нейроэстетические принципы современного сказочно-фэнтезийного кинодискурса наглядно иллюстрируют влияние «глубинного» механизма восприятия кинообразов, что позволяет говорить о расширении возможностей использования нейрокогнитивных связей в социальном инжиниринге как факторе геополитики. При полномасштабном масштабировании эмотивного потенциала сказочно-фэнтезийного кинодискурса как транслятора прогнозируемых и моделируемых эмоций необходимо учитывать оригинальные художественные приемы, вербальные средства (кинотекст), невербальные средства воздействия, включая эстетические элементы, отде- ленные от изображения пространственно-временным промежутком реальности и воображения, а также специфически ограниченный аудиовизуальный язык и этнокультурную коннотацию. В связи с этим возникает необходимость совершенствования методологии анализа смыслов в сказочно-фэнтезийном кинодискурсе, основанной на семантических сетях, фреймах, смысловых сетях продуцирования правил, которые так или иначе ограничены на сегодняшний день. Сложноорганизованная мультимодальная структура сказочно-фэнтезийного кинодискурса актуализирует поиск адекватной системы принятия решений и помощи в сортировке, упорядочении и категоризации данных для системного анализа.
Кинодискурс сказки и фэнтези, позволяя сохранить основные концепты мифологизированной картины мира, трансформирует их в контексте глобализации, делая акцент на универсальных чертах фольклорных героев, нивелируя этнокультурную специфику. В то же время существует проблема использования творческого подхода к интерпретации фольклора и фэнтези в кинодискурсе, который предполагает интеграцию качественно новых интерпретационных стратегий представления фольклора и мифа, основанных на принципах нейроэстетики.
Реформирование геополитической карты мира в XXI веке в условиях агрессивной нейрокогнитивной информационной войны корректирует реализацию эмоционального воздействия с использованием возможностей искусственного интеллекта . Новая художественная реальность сказочно-фэнтезийного кинодискурса обладает мощным суггестивным эффектом благодаря обращению к константам ценностного этнокультурного кода, воспринимаемым безоговорочно на уровне коллективного бессознательного. Соответственно, эмотивный потенциал сказочно-фэнтезийного кинодискурса рассчитывается на основе анализа ресурсных нейроэстетических стратегий киносказки и фэнтези в преломлении вероятностного прогнозирования развития и трансформации концептуальной картины мира реципиента как многоуровневой системы, представляющей интерес для политической психолингвистики и геополитологии.
Полученные данные открывают возможности для использования bigdata в исследованиях цифрового кино, мифолингвистике и цифровых политических технологиях в таких областях, как быстрое распознавание архетипа и его модифицированных трансформаций в кинодискурсе, определение эмоционального прогноза развития политики «мягкой силы» средствами киноиндустрии, что позволит не только ускорить принятие решений в стратегически важных областях внутренней и внешней геополитики, но и работать на опережение, что является важным фактором в социально-экономической и геополитической ситуации противостояния с недружественными странами с акцентом на вирулентность широко распространенных архетипов в цивилизационных контекстах Востока и Запада. Однако подкрепление данными таких естественных и точных наук, как нейроэстетика, когнитивистика, психофизиология и математика, дает четкое представление о степени влияния эмоциональных техник на трансформацию речевого и поведенческого профиля реципиента и его ценностной матрицы.