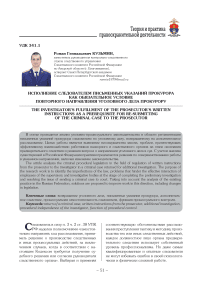Исполнение следователем письменных указаний прокурора как обязательное условие повторного направления уголовного дела прокурору
Автор: Кузьмин Р.Г.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Теория и практика правоохранительной деятельности
Статья в выпуске: 2 (55), 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье проводится анализ уголовно-процессуального законодательства в области регламентации письменных указаний прокурора следователю по уголовному делу, возвращенному на дополнительное расследование. Целью работы является выявление несовершенства закона, проблем, препятствующих эффективному взаимодействию работников надзорного и следственного органов на этапе окончания предварительного следствия и решения вопроса о направлении уголовного дела в суд. С учетом анализа существующей в Российской Федерации практики предлагаются решения по совершенствованию работы в указанном направлении, включая изменение законодательства.
Возвращение уголовного дела, письменные указания прокурора, дополнительное следствие, процессуальная самостоятельность следователя, функция процессуального контроля
Короткий адрес: https://sciup.org/140305839
IDR: 140305839 | УДК: 341.1
Текст научной статьи Исполнение следователем письменных указаний прокурора как обязательное условие повторного направления уголовного дела прокурору
С ледователь в силу п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ наделен полномочиями «самостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением случаев, когда в соответствии с настоящим Кодексом требуется получение судебного решения или согласия руководителя следственного органа». Выбирая и применяя соответствующую обстоятельствам расследования преступления тактику и методику производства тех или иных следственных действий, каждое должностное лицо органа предварительного следствия использует собственный уровень профессионализма. Но даже самые квалифицированные и опытные следователи не могут избежать ошибок в своей психологически и физически сложной работе.
Одним из самых действенных способов осуществления руководителем следственного органа процессуального контроля за работой подчиненного следователя является возможность дачи ему указаний в порядке п. 3 ч. 1 ст. 39 УПК РФ. Данные полномочия являются не только мерой ведомственного контроля в целях профилактики нарушения следователем норм закона, которые могут повлечь ущемление законных прав и интересов участников уголовного процесса, в том числе на разумные сроки судопроизводства, но и способом оказания практической помощи следователю путем составления перечня следственных действий, необходимых для получения доказательств события преступления и причастности к нему конкретного лица.
В законе не указана форма выражения указаний руководителя следственного органа, но, как верно отмечает О.В. Химичева, «указания – форма властного процессуального решения начальника следственного отдела, которое должно быть облечено в письменную форму» [11, c. 27], тем более что следователь имеет право обжаловать указания своего руководителя, для чего они, конечно, должны быть обязательно даны в письменном виде.
Однако письменные указания следователю может давать не только его непосредственный руководитель, но и надзирающий прокурор, но лишь в единственном случае – при возвращении им уголовного дела следователю на дополнительное расследование.
Так, после вступления в законную силу Федерального закона от 5 июня 2007 г. N 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации"», целью которого было повысить независимость следователей, а также разграничить функции органов прокуратуры и органов предварительного расследования, оставив надзор первым, а вторых наделив усиленной ответственностью в виде процессуального контроля за работой лица, непосредственно осуществляющего расследование, прокуратура фактически лишилась полномочий корректировать ход предвари- тельного следствия, в том числе путем дачи письменных указаний следователю.
Несмотря на фактическую утрату функции процессуального контроля за органами предварительного следствия, прокуратура в то же время согласно ч. 1 ст. 37 УПК РФ и ст. 29 Федерального закона от 17 января 1992 г. N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», продолжает осуществлять от имени государства надзор, предметом которого является процессуальная деятельность органов предварительного следствия.
Уголовно-процессуальный закон не предусматривает компетенцию сотрудников органов предварительного следствия направлять уголовное дело непосредственно в суд – эта традиционная обязанность прокурора. Работник надзорного органа может реализовать данные полномочия после окончания предварительного следствия – после проверки поступивших к нему от следователя материалов уголовного дела с обвинительным заключением в порядке ст. 220 УПК РФ.
На этом этапе прокурор изучает уголовное дело на предмет достаточности доказательств и отсутствия нарушений закона и вправе вернуть дело для дополнительного расследования и устранения недостатков, которые препятствуют судебному разбирательству. При этом в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ прокурор возвращает дел следователю «со своими письменными указаниями». Аналогичное полномочие прокурора продублировано и в п. 15 ч. 2 ст. 37 УПК РФ.
Полагаем, что данные функции прокурора выходят за рамки надзорных. В данном случае можно говорить о произошедшей на данном этапе производства по уголовному делу метаморфозе полномочий прокурора – переходе его надзорной функции в контрольно-процессуальную, не свойственную прокурору на стадии предварительного следствия.
В более широком смысле данная контрольная функция является одновременно и формой реализации функции уголовного преследования, поскольку своими письменными указаниями в адрес следователя проку- рор на стадии дополнительного следствия (то есть во время предварительного следствия) фактически участвует в сборе будущих доказательств и привлечении конкретного лица к уголовной ответственности. Более того, прокурор организует данный процесс по своему внутреннему убеждению, которое может не совпасть с позицией следователя, который в данном случае практически утрачивает свою процессуальную независимость.
Учитывая, что письменные указания являются обязательными, их неисполнение следователем станет практически непреодолимым препятствием на пути уголовного дела в суд при его повторном направлении прокурору в порядке ст. 220 УПК РФ.
Указания прокурора по своей природе императивны. Как отмечает Д.А. Железнов: «Следователь не может не выполнить указания прокурора, поскольку последний будет возвращать дело по тем же основаниям» [5, с. 89]. Т.В. Куряхова также считает, что «указания определяют минимальные границы деятельности следователя по возвращенному уголовному делу. При повторном поступлении уголовного дела прокурор обязан убедиться в полноте и качестве исполнения данных им указаний. Он должен создать условия для рассмотрения и поддержания государственного обвинения в суде, поэтому дело может возвращаться неоднократно, пока данная цель не будет достигнута» [7, с. 73].
Итак, дача письменных указаний следователю на стадии возвращения ему дела – единственная легальная возможность для прокурора оказать влияние на ход следствия, нередко исходя из субъективного восприятия обстоятельств расследования преступления, что может порождать необоснованную организацию производства дополнительного следствия.
В результате проведенного анализа постановлений прокуроров Российской Федерации о возвращении на дополнительное расследование уголовных дел установлено, что нередко такие решения были продиктованы излишним субъективизмом в подходе к оценке нарушений закона с точки зрения их существенности.
Так, прокурором для пересоставления обвинительного заключения возвращены уголовные дела по обвинению К. по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ и по обвинению С. по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ по причине совершения следователем технических ошибок в обвинительном заключении – неверно указано отчество обвиняемого К. – Вадимович вместо Владимирович, и в анкетных данных обвиняемой С. в графе «дата рождения» указано «13 октября 1962 года рождения», тогда как настоящей датой является 13 октября 1972 года»1. Также прокурором возвращено дело по обвинению М. по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ в том числе по причине нарушения ч. 9 ст. 172 УПК РФ – ненаправления в прокуратуру копии постановления о привлечении в качестве обвиняемого, а также отсутствия копии паспорта обвиняемого в материалах дела2.
Да, неверное отождествление следователем личности обвиняемого в ряде случаев объективно влечет необходимость проведения дополнительного следствия с целью достоверного установления личности привлекаемого к уголовной ответственности лица (например, путем опознания или приобщения подтверждающих личность документов). Однако зачастую проблем в установлении личности привлекаемого к уголовной ответственности лица уже имеющимися в деле доказательствами не возникает. В таких случаях полагаем, что для устранения подобных допущенных следователем грамматических ошибок не обязательно возвращать уголовное дело на стадию дополнительного следствия. Сугубо технические недостатки при составлении одного процессуального документа могут быть устранены и иным, менее затратным способом, то есть без возвращения всех материалов дела следователю. Например, путем вынесения постановления об установлении обстоятельств, имеющих значение для дела, в котором резюмируется исправление ошибки. Подобные дефекты в следственной работе не влекут существенного нарушения прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства. Напротив, возвращение уголовного дела для дополнительного следствия как раз и противоречит интересам сторон уголовного процесса, значительно отодвигая во времени приговор суда.
Изучение следственной практики региональных следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации показало, что в большинстве случаев уголовные дела возвращаются по причине неполноты следствия. Из опрошенных автором настоящего исследования 304 сотрудников следственных управлений, в том числе по республикам Адыгея, Бурятия, Калмыкия, Коми, Крым, Марий Эл, Северная Осетия (Алания), Удмуртия, Чувашия, Саха (Якутия), по Краснодарскому, Красноярскому, Приморскому краям, по Амурской, Архангельской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Иркутской, Кировской, Ленинградской, Магаданской, Московской, Мурманской, Новгородской, Новосибирской, Оренбургской, Псковской областям, по г. Москва, установлено, что 2/3 уголовных дел (63,5% от общего количества возращенных опрошенным должностным лицам следственных органов уголовных дел) поступали из прокуратур «для дополнительного следствия», то есть в связи с выявлением прокурорами неполноты следствия.
При таком основании для возвращения дела указания прокурора, как правило, содержат перечень конкретных следственных действий, необходимых для усиления доказательственной составляющей.
Так, прокурором Советского района Кировской области возвращено уголовное дело по обвинению П. по ч. 4 ст. 111 УК РФ с указаниями лицу, производившему предварительное следствие, «провести проверку показаний на месте свидетелей К., Б. и С., неоднократно изменявших свои показания, назначить дополнительную судебную медицинскую экспертизу для выяснения вопроса о возможности образования повреждений потерпевшего при ударах К. или падениях погибшего; с учетом полученные результатов перепредъявить П. обвинение, дополнительно допросить обвиняемого с целью выяснения мотива совершения преступления»1.
Итак, возвращая дело следователю, прокурор указывает ему на некачественно проведенное расследование, обозначает допущенные нарушения закона и недостаточный объем полученных доказательств, а также определяет список конкретных мероприятий, которые должен выполнить следователь в целях дальнейшего беспрепятственного утверждения обвинительного заключения. То есть прокурор, приняв такое решение, фактически берет управление следственным органом на стадии дополнительного расследования в свои руки, вынуждая следователя выполнять то, что он (прокурор) считает необходимым. Это, безусловно, посягает на установленную законом процессуальную самостоятельность органа предварительного следствия, дополняет надзорную функцию прокурора процессуально-контрольной, при которой последний фактически начинает осуществлять уголовное преследование вместе со следователем.
На эту проблему обращает внимание П.П. Корчинский: «Указания прокурора надзорного характера, связанные с констатацией процессуальной нечистоты ряда документов дела и необходимостью устранения порока формы, исключают процессуальную самостоятельность следователя в выборе средств устранения (это либо повторное проведение следственного (процессуального) действия либо признание безвозвратной потери его результатов вследствие недопустимости)» [6, с. 39].
Обратим внимание также, что законом не закреплено право следователя после поступления к нему уголовного дела от прокурора в порядке ст. 221 УПК РФ проводить не
только те следственные действия, на которые указано прокурором, но и другие, необходимость в которых может возникнуть в процессе выполнения указаний прокурора либо в силу иных обстоятельств (например, из-за подачи ходатайства обвиняемого о допросе очевидца или проведении очной ставки).
Таким образом, необходимость исполнения следователем указаний прокурора может повлечь увеличение количества доказательств, полученных дополнительно. В связи с этим в законе нужно предусмотреть полномочия следователя по проведению во время дополнительного расследования любых процессуальных действий, а не только тех, на выполнении которых настаивает прокурор.
Закон не содержит обязательных требований к форме, структуре и источнику письменных указаний прокурора.
Как подметила Р.П. Еремина: «Существует законодательная и правоприменительная неопределенность при осуществлении прокурором полномочия давать письменные указания: в законодательстве отсутствует понятие данного акта прокурорского реагирования, не регламентированы требования к его форме (не разрешен вопрос относительно его самостоятельности) и содержанию, кроме того, отсутствует указание на ответственность в случае его неисполнения» [4].
В каких же документах прокурор в практической деятельности излагает свои письменные указания?
В следственной практике иногда встречаются указания в подписанном прокурором сопроводительном письме к постановлению о возвращении дела, а также случаи изложения указаний в отдельном процессуальном акте с аналогичным названием.
Например, и.о. прокурора г. Мончегорска Мурманской области вернул уголовное дело по обвинению С. по п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 242.1 УК РФ в связи с неполнотой предварительного следствия. Указания составлены прокурором в отдельном процессуальном докумен- те – «Письменные указания по уголовному делу», в котором прокурор под отдельными пунктами изложил каждое следственное действие, которое необходимо выполнить следователю, в том числе допросить специалистов В. и Ш., перепредъявить С. обвинение и допросить его1.
Но наиболее распространена практика изложения письменных указаний непосредственно в тексте постановления о возвращении дела.
Так, заместителем прокурора Краснодарского края возвращено уголовное дело по обвинению Ш. по п. «в» ч. 2 ст. 105 и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Указания приведены прокурором в описательной части постановления, где изложено, что необходимо перепредъявление обвинения в соответствии с установленными фактическими данными расследуемого преступления, получение сведений о принятом процессуальном решении по рапорту следователя об обнаружении в действиях Ш. признаков других преступлений, детальный допрос круга установленных лиц на предмет выяснения наличия и источника образования у малолетней Т. всех обнаруженных телесных повреждений, допрос экспертов о механизме образования телесных повреждений, времени их причинения и причинах невозможности отождествления обнаруженных биологических объектов2.
Такую практику изложения указаний в постановлении о возвращении дела поддерживают и теоретики. Например, П.П. Кор-чинский отмечает, что «указания, как представляется, должны быть изложены не в виде отдельного документа, а в тексте самого постановления прокурора» [6, с. 43].
В то же время можно подвергнуть сомнению мнение П.П. Корчинского о том, что «прокурор обязан конкретно указать следователю: по какой причине дело возвращается, какие нарушения материального или процессуального закона допущены при расследовании и конкретно указать, каким обра- зом их необходимо устранить, какие обстоятельства должны быть установлены в ходе дополнительного следствия и какие при этом следственные действия необходимо выполнить следователю» [6, с. 43], как и аналогичную позицию А.А. Терехина о том, что в постановлении о возвращении дела прокурор должен указывать «процессуальные действия, которые необходимо осуществить для устранения нарушений и недостатков» [10, с. 68].
Так, прокурор, возвращая уголовное дело, заново запускает процесс предварительного расследования преступления. Как уже отмечалось, прокурор уполномочен надзирать за процессуальной деятельностью следственного органа, но не вправе вмешиваться в тактику работы следователя, определять за него дальнейший ход расследования, в том числе дополнительного.
Таким образом, норма, наделяющая работника надзорного органа полномочиями давать следователю письменные указания о выполнении конкретных следственных действий на стадии дополнительного следствия, как де-факто содержащая функции процессуального контроля за работой должностного лица другого органа государственной власти – следователя, противоречит другим нормам действующего уголовно-процессуального законодательства об установлении де-юре единственной функции прокурора в части взаимоотношений со следственным органом – надзорной.
Некоторые работники прокуратуры осознают существование данных противоречий и исполняют свои обязанности по подготовке письменных указаний с учетом общих положений уголовно-процессуального закона, устанавливающих их исключительно надзорную функцию.
Например, прокурор Советского района Курской области в постановлении о возвращении уголовного дела по обвинению Б. и М. по ч. 4 ст. 159 УК РФ описал выявленные нарушения, не указав способ их исправления: «Предъявленное обвинение не конкретизировано, объективная сторо- на преступлений не раскрыта, не указан ни способ совершения преступления, ни место и время совершения преступных деяний (каким образом изготовлено платежное поручение, гражданско-правовой договор, где и каким образом приисканы анкетные данные исполнителя по договору), в обвинительном заключении и постановлениях о привлечении в качестве обвиняемых не конкретизирован умысел обвиняемых»1. В данном случае прокурор не возложил на себя функцию процессуального контроля – не стал указывать конкретные следственные действия, подлежащие выполнению следователем.
В постановлении о возвращении уголовного дела любой прокурор, безусловно, должен указать следователю на обнаруженные нарушения закона и неполноту доказательств. Но каким именно путем устранить данные недостатки, следователь должен определить сам как процессуально самостоятельное лицо. Как заметил С.С. Бурынин, «следуя этой логике, прокурорский надзор не должен быть связан с непосредственным вмешательством в процессуальную деятельность следователя. Этой же точки зрения, по-ви-димому, придерживался и законодатель, который хоть и попытался перераспределить контрольно-надзорные полномочия между прокурором и руководителем следственного органа, но все же допустил их смешение» [2, с. 26].
В связи с наличием указанных противоречий в законе некоторые ученые выступают за возвращение прокурору полномочия давать указания следователю на любом этапе предварительного следствия, то есть снова наделить прокурора утраченной контрольно-процессуальной функцией на протяжении всего срока предварительного следствия.
Например, А.Ю. Синдеев предлагает вернуть в закон полномочия прокурора давать следователю указания с одновременной отменой возможности внесения предусмотренных п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ требований об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе предва- рительного следствия, полагая, что «при наличии указанных процессуальных решений, требовать прокурору ничего не придется, достаточно будет двумя процессуальными документами изменить вектор действий следователя, что существенно сэкономит процессуальные сроки» [9, с. 136].
За это выступает и Е.А. Новиков: «Поскольку прокурор вправе дать письменные указания следователю в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ, не ясно, почему этого нельзя сделать ранее, в ходе предварительного расследования. Очевидно, что промедление с дачей указаний следователю может привести к трудновосполнимым или вовсе невосполнимым потерям» [8, с. 95-96].
С Е.А. Новиковым согласны Е.Р. Ергашев и Ф.В. Шваба: «Иначе говоря, законодатель лишил прокурора возможности давать указания следователю в течение всего предварительного следствия, но разрешил давать их, когда большинство процессуальных действий фактически совершено, а с момента возбуждения уголовного дела прошло много времени. Поэтому некоторые указания прокурора о совершении определенных действий могут объективно запаздывать» [3, с. 81].
Однако позволим себе не согласиться с такой позицией. Время показало, что решение законодателя в 2007 г. разделить надзор и контроль разными ведомствами, в целом повысить самостоятельность органов предварительного следствия было обоснованным.
О позитивном результате следственной реформы свидетельствует, в частности, то, что с момента существование главного органа предварительного следствия страны – Следственного комитета Российской Федерации – с 2007 года при прокуратуре, а с 2011 года и в качестве самостоятельного государственного органа, то есть продолжительное время, постоянно снижается удельный вес от числа направленных уголовных дел прокурору решений последнего о возвращении уголовного дела для дополнительного расследования, а также количество поступающих прокурору дел из суда в порядке ст. 237 УПК РФ. К положительным моментам усиления контрольно-процессуальной роли руководителя след- ственного органа в отношении следователя и уменьшения в связи с этим степени влияния на предварительное следствия прокуратуры можно отнести и относительно небольшие сроки предварительного следствия по оконченным производством уголовным делам. Все это свидетельствует об устоявшейся эффективной форме взаимодействия следственных и надзорных органов, при которой каждый орган исполняет свою функцию, кардинально не вмешиваясь в работу друг друга.
О позитивном результате следственной реформы неоднократно высказывались и некоторые исследователи. Например, по мнению А.М. Багмета и Ю.А. Цветкова, «законодатель не по какой-то нелепой случайности, а вполне осмысленно ослабил власть прокурора и укрепил власть следователя. Это называется система сдержек и противовесов: прокурор не может без следователя возбудить уголовное дело и собрать доказательства, а следователь не может без прокурора направить дело в суд и поддерживать обвинение в суде. Другими словами, законодатель, в противовес власти прокурорской наделил самостоятельностью власть следственную, однако уравновесил обе власти блокирующими полномочиями прокурора. Именно такая модель, хотя в ней и заложена потенциальная возможность разногласий и даже процессуальных конфликтов, «обрекает» и следователя, и прокурора на сотрудничество как единственно возможный способ эффективной деятельности каждого из них. Кстати, именно в тех регионах, где руководители и следственных органов, и прокуратуры осознали преимущества сотрудничества, достигнуты и наиболее заметные результаты в организации уголовного преследования» [1, с. 62].
Наделение прокурора функцией процессуального контроля начиная со стадии возбуждения уголовного дела будет означать фактически сращивание органа надзора с органом предварительного расследования, что лишит самостоятельности следователя в выборе тактики работы по уголовным делам, повлечет другие неблагоприятные последствия, в том числе снизит ответственность руководителя следственного органа, может способствовать проявлениям в среде работников прокуратуры коррупционных факторов и т.п.
Итак, возвращение уголовного дела на дополнительное расследование без конкретизации следственных действий, подлежащих выполнению, на первый взгляд, порождает некую неопределенность для следователя. Предлагается следующее решение данного парадокса.
В ходе исследования мы установили, что большинство письменных указаний прокуроры вкладывают в текст постановления о возвращении дел.
Согласно ч. 4 ст. 7 УПК РФ любое постановление прокурора должно быть обоснованным и мотивированным. Следовательно, свое постановление о возвращении уголовного дела прокурор обязан мотивировать и обосновать. В частности, в постановлении о возвращении дела прокурор должен указать, в чем выразилась неполнота следствия, какие ошибки допущены.
На необходимость усиления мотивировочной части постановления о возвращении уголовного дела следователю обращает внимание и приказ Генерального прокурора от 17 сентября 2021 г. N 544 «Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия», согласно п. 1.16 которого «в случае установления обстоятельств, препятствующих рассмотрению уголовного дела судом, отсутствия достаточных доказательств виновности обвиняемого, неправильной квалификации содеянного, неполноты проведенного предварительного расследования возвращать уголовное дело следователю для дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемого или пересоставления обвинительного заключения и устранения иных выявленных недостатков, при этом постановление прокурора должно быть аргументированным, содержащим сведения о допущенных нарушениях, подлежащих устранению».
При соблюдении данных условий подготовка отдельных письменных указаний прокурором не потребуется, поскольку из мотивировочной части постановления будет логически вытекать объем следственных действий, которые необходимо выполнить для направления дела в суд. То есть прокурор «косвенно» подскажет в своем постановлении следователю, что ему необходимо исправить, чтобы устранить препятствие к утверждению обвинительного заключения. Выбор же тактики и методики коррекции выявленных надзорным органом недостатков должен остаться за следователем, как лицом, имеющим процессуальную независимость. Само же упоминание письменных указаний прокурора в адрес следователя необходимо исключить из закона как излишне введенный элемент процессуального контроля, противоречащий исключительно надзорной функции прокурора на стадии предварительного следствия.
В связи с изложенным предлагаем п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ, касающийся принятия прокурором решения по поступившему от следователя уголовному делу, изложить в следующем виде: «о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия в связи с неполнотой предварительного следствия и (или) необходимостью устранения существенных нарушений уголовно-процессуального закона», тем самым исключить из указанной нормы закона (равно как и из п. 15 ч. 2 ст. 37 УПК РФ) возложенную на прокурора обязанность по даче письменных указаний следователю как не соответствующую его функции надзора.
Список литературы Исполнение следователем письменных указаний прокурора как обязательное условие повторного направления уголовного дела прокурору
- Багмет, А.М. Сильное следствие и его противники / А.М. Багмет, Ю.А. Цветков // LEXROSSICA. – 2015. – N 4. – Том I.
- Бурынин, С.С. Конкуренция процессуального контроля и прокурорского надзора за деятельностью следственных органов / С.С. Бурынин // Российский следователь. – 2020. – N 4.
- Ергашев, Е.Р. Процессуальные средства прокурорского реагирования: проблемы правовой регламентации / Е.Р. Ергашев, Ф.В. Шваба // Российское право: образование, практика, наука. – 2019. – N 1.
- Ерёмина, Р.П. Письменные указания прокурора: практическое значение и проблемы правовой регламентации / Р.П. Ерёмина // Юридическая книга: юридический журнал онлайн. – 2022. – N 5. URL: https://legalbook.ru/585-pismennye-ukazanija-prokurora-prakticheskoe-znacheniei-problemy-pravovoj-reglamentacii.html (дата обращения: 25.02.2024).
- Железнов, Д.А. О полномочии прокурора давать письменные указания следователю / Д.А. Железнов // Устойчивое развитие науки и образования. – 2018. – N 1.
- Корчинский, П.П. Возвращение прокурором уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия: научная работа для проекта «Инфоурок» (на правах рукописи). – Симферополь, 2020. – URL: https://infourok.ru/nauchnaya-rabota-po-predmetu-pravo-na-temuvozvrashenie-prokurorom-ugolovnogo-dela-sledovatelyu-dlya-proizvodstva-dopolnitelnogo-4461103.html?ysclid=lw8xadwgpc248622189.
- Куряхова, Т.В. Устранение следователем нарушений, препятствующих рассмотрению судом уголовного дела: учебное пособие / Т.В. Куряхова. – Омск: Омская академия МВД России, 2014.
- Новиков, Е.А. Руководитель следственного органа в Российском уголовном судопроизводстве: процессуальные и организационные аспекты: дис. … канд. юрид. наук / Е.А. Новиков. – М., 2009.
- Синдеев, А.Ю. Процессуальные решения прокурора в досудебных стадиях уголовного судопроизводства и их юридические последствия: дис. … канд. юрид. наук / А.Ю. Синдеев. – М., 2021.
- Терёхин, А.А. Акты прокурорского реагирования по уголовному делу, поступившему с обвинительным заключением или обвинительным актом / А.А. Терёхин // Вестник Омского юридического института. – 2012. – N 1 (18).
- Химичева, О.В. Концептуальные основы процессуального контроля и надзора на досудебных стадиях уголовного судопроизводства: дис. … докт. юрид. наук / О.В. Химичева. – М., 2004.