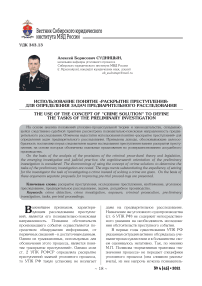Использование понятия "раскрытие преступления" для определения задач предварительного расследования
Автор: Судницын А.Б.
Журнал: Вестник Сибирского юридического института МВД России @vestnik-sibui-mvd
Рубрика: Теория и практика правоохранительной деятельности
Статья в выпуске: 4 (45), 2021 года.
Бесплатный доступ
На основе анализа положений уголовно-процессуальной теории и законодательства, складывающейся следственно-судебной практики рассмотрена познавательно-поисковая направленность предварительного расследования. Отмечены недостатки использования понятия «раскрытие преступлений» для определения задач предварительного расследования. Приведены доводы, обосновывающие целесообразность постановки перед следователем задачи исследования преступления взамен раскрытия преступления, на основе которых обозначены отдельные предложения по усовершенствованию досудебного производства.
Раскрытие преступления, исследование преступления, изобличение, уголовное преследование, предварительное расследование, задачи, досудебное производство
Короткий адрес: https://sciup.org/140290410
IDR: 140290410 | УДК: 343.13
Текст научной статьи Использование понятия "раскрытие преступления" для определения задач предварительного расследования
Важнейшим признаком, характеризующим расследование преступлений, является его познавательно-поисковая направленность. Познание обстоятельств произошедшего события осуществляется посредством обнаружения информации, от первичных сведений – к достаточным данным. Одним из традиционных, используемых для обозначения этого процесса, является понятие «раскрытие преступлений». Однако если ст. 2 УПК РСФСР определяла раскрытие преступлений задачей уголовного процесса, то УПК РФ такую установку не возлагает даже на предварительное расследование. Назначение же уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ) не содержит непосредственного указания на необходимость исследования обстоятельств преступного события.
В первые годы существования УПК РФ указанная ситуация активно обсуждалась учеными-процессуалистами и в большинстве своем оценивалось негативно. Так, по мнению М.П. Полякова «нормативная трактовка «назначения процесса» не передает специфики уголовного процесса (она слишком расплывчата), из нее напрочь исчезла познаватель-

ная нацеленность процесса» [21, с. 192-193]. В.А. Азаров, говоря о значимости раскрытия преступлений, назвал его «крупным фрагментом деятельности органов предварительного расследования по борьбе с преступностью» [1, с. 5]. В.Ф. Статкус высказал предложение о необходимости подготовки инструкции с «изложением требований о том, что задачу раскрытия преступлений никто с правоохранительных органов не снимал» [24, с. 103]. Безусловно соглашаясь с необходимостью возложения на досудебное производство установления познавательно-поисковой направленности, рассмотрим возможность постановки перед предварительным расследованием задачи раскрытия преступления.
Многолетняя дискуссия по поводу понятия «раскрытие преступления» не привела к общепринятому мнению среди ученых. В литературе выделяются несколько различающихся подходов. Отличия между ними заключаются в разном объеме устанавливаемых сведений и, соответственно, наступлении момента, с которого преступление признается раскрытым.
Один из них ограничивает раскрытие преступления установлением события преступного деяния и его совершения определенным лицом [2, с. 10; 14, с. 152; 16, с. 64; 28, с. 17]. Последователи второго подхода указывают, что раскрытие преступления заключается в установлении данных о преступлении и виновном в его совершении в объеме, позволяющем предъявить обвинение [5, с. 30; 8, с. 25; 9, с. 50; 15, с. 100]. Представители третьего направления под раскрытием преступления понимают установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию, что является основанием для окончания предварительного расследования и составления обвинительного заключения [6, с. 5-7; 7, с. 28; 12, с. 38]. Идея общей нацеленности органов уголовной юстиции на единый момент раскрытия преступлений выразилась в подходе, в соответствии с которым престу- пление признается раскрытым лишь после вынесения судебного решения по уголовному делу и вступления его в законную силу [11, с. 363; 17, с. 16; 23, с. 108; 27, с. 35].
Не вдаваясь в обстоятельный анализ указанных позиций (это уже становилось предметом анализа [подр.: 25, c. 78-80]) и пока не приводя свое представление об этом понятии, подчеркнем, что отсутствие единства взглядов в трактовке категории «раскрытие преступления», а также принципиальные расхождения в определении его сущностных характеристик не способствуют его пониманию, затрудняют его использование в правовом регулировании досудебной части уголовного судопроизводства.
Следует отметить, что исключение категории «раскрытие преступления» из текста уголовно-процессуального закона при его подготовке и принятии не привело к абсолютному отказу от ее использования в действующем законодательстве, принятом как до УПК РФ1, так и после него2.
На протяжении достаточно длительного периода категория «раскрытие преступления» используется в нормах УК РФ, регламентирующих назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за совершенное преступление (ст. 64 УК РФ), освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ), а также в ряде норм Особенной части, специально предусматривающих случаи освобождения от уголовной ответственности (примечания к ст. 110, 210, 212, 228 УК РФ и др.). Но по прошествии более чем двадцати лет существования УК РФ вопрос соотношения раскрытия и расследования преступлений в материальном праве не имеет однозначного ответа. Это определяется рядом обстоятельств.
Так, в отдельных нормах закона способствование раскрытию преступления фигурирует как самостоятельное условие для принятия решения (назначение более мягкого наказания – ст. 64 УК РФ, примечание к ст. 127.1 УК РФ (торговля людьми), примечание к ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации и др.)).
В других случаях, ввиду использования в норме закона союза «и», помимо способствования раскрытию преступления для принятия соответствующего решения требуется наличие дополнительного условия в виде способствования расследованию преступлений (освобождение от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием – ст. 75 УК РФ).
В третьей группе норм при использовании составного союза «и (или)» способствование раскрытию преступления может быть самостоятельным условием или одним из условий для принятия решения (примечание к ст. 291 УК РФ (дача взятки), ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество)).
Исходя из имеющейся регламентации, лицо, совершившее преступление, может быть освобождено от уголовной ответственности, если оно способствовало раскрытию преступления (ст. 322.2 УК РФ). Буквально, если лицо способствовало только расследованию совершенного преступления, оно не должно быть освобождено от уголовной ответственности по примечанию к указанной статье.
Тем не менее суды довольно часто по-разному трактуют понятия «раскрытие» и «расследование» и, соответственно, способствование им. Так, приговором мирового судьи судебного участка N 55 в Кировском районе г. Красноярска от 13 сентября 2016 г. О.Ф.К. осуждена по ст. 322.3 УК РФ. Из приговора следует, что в соответствии со ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, учтено активное способствование расследованию преступлений в виде поведе- ния подсудимой после совершения преступлений, связанное с дачей последовательных, правдивых признательных показаний. Президиум Красноярского краевого суда, отменяя приговор, отметил, что содержание правовых понятий «раскрытие преступления», указанное в примечании 2 к ст. 322.3 УК РФ, и «расследование преступления», которое установил суд по указанному делу, является идентичным и не препятствовало освобождению О.Ф.К. от уголовной ответственности на основании примечания 2 к ст. 322.3 УК РФ. Судебные решения отменены, О.Ф.К. согласно п. 2 примечания к ст. 322.3 УК РФ освобождена от уголовной ответственности с прекращением производства по уголовному делу3.
Не разграничиваются указанные понятия и в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации (далее – ВС РФ). Активное способствование раскрытию и расследованию преступлений истолковываются, как правило, одним общим определением. Признаки, характерные раскрытию и расследованию, отдельно не приводятся4.
В качестве примечательного примера можно привести одно из постановлений Пленума ВС РФ5, в тексте которого (абз. 4 п. 29) приводится единая трактовка указанных понятий, а в «соседнем» пункте (п. 30), при разъяснении вопроса освобождения от уголовной ответственности взяткодателя либо лица, совершившего коммерческий подкуп, активно способствовавших раскрытию и (или) расследованию преступления, используется составной союз «и (или)». Возникающий по ходу чтения вопрос (как разграничить, чему именно способствовало лицо: раскрытию или расследованию преступления?) остается в тексте без ответа. При том, что в примечании к ст. 291 УК РФ (дача взятки) также используется союз «и (или)».
В постановлениях Пленума ВС РФ, обзорах судебной практики, где предприняты попытки отдельного истолкования понятий «способствование раскрытию преступления», «способствование расследованию преступления», таковые содержательно друг от друга не отграничиваются, сущностные признаки совпадают6.
Констатируем, что отсутствие толкования понятия «раскрытие» в материальном праве, разноаспектность его использования в отдельных нормах УК РФ, имеющееся отождествление понятий «активное способствование раскрытию преступления» и «активное способствование расследованию преступления» в разъяснениях ВС РФ и отличающаяся судебная практика не только не позволяют однозначно разграничивать понятия «раскрытие» и «расследование» с точки зрения материального права, но и ставят под сомнение необходимость их использования в тексте уголовного закона.
Обратимся к уголовно-процессуальному законодательству. С июня 2009 г. в тексте УПК РФ появилась категория «раскрытие преступлений», что обязывает остановиться на этом моменте подробнее.
Федеральным законом от 29 июня 2009 г. N 141-ФЗ УПК РФ дополнен главой 40.1 «Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве», в нормах которой законодатель вернулся к использованию указанного понятия.
Так, при определении порядка заявления ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (ч. 2 ст. 317.1 УПК РФ) данная норма определяет, что обвиняемый (подозреваемый) указывает в ходатайстве, какие действия он обязуется совершить в целях содействия следствию в раскрытии и расследовании преступления (здесь и далее курсив мой. – А.С.). Схожая формулировка используется и при регламентации процедуры рассмотрения ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, основаниях применения особого порядка и проведения судебного заседания (п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 317.5, п. 1 ч. 2 ст. 317.6, п.п. 1, 2 ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ).
Отдельные авторы считают наличие указанных норм достаточным для утверждения об осуществлении органами следствия раскрытия преступлений, называя следователей субъектами раскрытия преступлений наравне с сотрудниками оперативных подразделений и иными должностными лицами органов дознания [26, с. 32].
Позволим себе не согласиться с подобной точкой зрения. Помимо ранее указанных доводов, ставящих под сомнение возможность возложения раскрытия преступлений на следователя, эта позиция определяется следующим.
Во-первых, подобное истолкование понятия «раскрытие преступления» отсутствует в УПК РФ.
Во-вторых, словосочетание «содействие следствию в раскрытии … преступления» можно расценивать и как указание на то, что досудебное соглашение о сотрудничестве может быть заключено с обвиняемым (подозреваемым) при расследовании уголовного дела только в форме предварительного следствия.
Кроме того, не исключается, что лицо, с которым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в соответствии с данными им обязательствами сообщит не только детали преступления, по которому уже ведется предварительное следствие (будет содействовать расследованию преступления), но и по ранее неизвестному преступлению (будет содействовать раскрытию преступления). По последнему, вероятнее всего, понадобится проведение оперативно-розыскных мероприятий, проверка сообщения о преступлении с последующим принятием решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ. Такой вывод удостоверяется и логикой изменений постановления Пленума ВС РФ, допустивших подтверж- дение активного содействия следствию со стороны обвиняемого, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, путем дачи показаний об участниках иного преступления, совершенного без его участия (п. 9.1), сообщения о других преступлениях (абз. 3 п. 16)7.
Помимо теоретических рассуждений необходимо принять во внимание и практику инициативного выявления следователем преступлений. В правоприменительной деятельности встречаются примеры самостоятельного (без использования оперативных данных) выявления следователем признаков нового преступления и установления лица, его совершившего. Подобные факты могут иметь место как при проверке сообщения о преступлении, так и в ходе расследования другого преступления. По итогу таких случаев принимается процессуальное решение и заполняется статистическая карточка на выявленное преступление (форма N 1), где в реквизите 9 указывается следственное подразделение8. Результаты интервьюирования следователей и руководителей следственных подразделений органов внутренних дел демонстрируют крайне низкий уровень выявления следователями преступлений – 2-3% от общего числа выявленных иными подразделениями и службами органов внутренних дел преступлений. Из этого закономерно следует вывод, что преступления практически не раскрываются следственным путем. Исходя из постулата – «практика является критерием истинности», сложившееся в правоприменительной деятельности положение может быть расценено как подтверждение ошибочности суждений о возложении на следователя задачи раскрытия преступлений.
Коснемся содержания ранее упомянутых норм с иного ракурса. Согласно УПК РФ в ходатайстве о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве обвиняемый должен указать, какие действия он обязуется совершить в целях содействия следствию в изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления (ч. 2 ст. 317.1 УПК РФ). Аналогичные формулировки фигурируют и в других статьях, регламентирующих особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве (п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 317.5, п. 1 ч. 2 ст. 317.6, п.п. 1, 2 ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ).
Законодательное определение уголовного преследования как процессуальной деятельности, осуществляемой стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления (п. 55 ст. 5 УПК РФ), недвусмысленно указывает на то, что изобличение является целью уголовного преследования. Одно это позволяет сделать вывод о некорректном построении вышеупомянутых норм закона, смешивающих разноплановые понятия: изобличение и уголовное преследование (в рассматриваемом контексте они не могут стоять в одном ряду).
Кроме того, учитывая, что официальное уголовное преследование может осуществляться только в рамках возбужденного уголовного дела и только в отношении лиц, поставленных в процессуальное положение подозреваемого или обвиняемого по уголовному делу [4, с. 10-21], позволим сделать следующий вывод. Ранее приведенную формулировку, употребляемую в ч. 2 ст. 317.1, п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 317.5, п. 1 ч. 2 ст. 317.6, п.п. 1, 2 ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ, следует признать примером неудачной юридической конструкции. Возможность же обоснования позиции осуществления следователем раскрытия преступлений на основе указанных норм, содержащих в себе очевидный дефект законодательной техники, представляется сомнительной.
Таким образом, понятие «раскрытия преступления» целесообразно истолковывать как деятельность органа дознания, направленную на установление события преступного

деяния и выявление лица, его совершившего. По раскрытию преступления должны быть получены данные, позволяющие выдвинуть обоснованную версию о совершении конкретного уголовно наказуемого деяния (признаки преступления, место, время, способ и другие важнейшие обстоятельства его совершения) определенным лицом.
Приведенные соображения позволяют утверждать, что понятие «раскрытие преступлений» отражает специфику оперативно-розыскной деятельности и не отражает специфику большей части деятельности, осуществляемой в рамках предварительного расследования. В текущем моменте данное понятие нецелесообразно использовать при установлении задач предварительного расследования.
Для определения задач предварительного расследования предпочтительнее использовать понятие «исследование». Оно лишено ряда недостатков, присущих понятию «раскрытие». Исследование указывает на механизм познания произошедшего события и нацеливает на его осуществление. Ставя перед следователем задачу исследования преступления, мы тем самым подчеркиваем необходимость всестороннего, полного и объективного производства. Подобная установка гармонично вписывается в современную концепцию защиты личности в уголовном процессе, т.к. «исследование обстоятельств дела – единая по своей направленности деятельность, не поддающаяся заранее делению на обвинительную или защитительную» [5, с. 30]; закрепляет стремление установить действительно имевший в прошлом круг фактов.
Окончательное исследование преступления может иметь место только после вынесения судебного решения по уголовному делу и вступления его в законную силу. Общий подход, когда все органы уголовной юстиции «будут ориентированы на конечные результаты, позволит значительно повысить эффективность взаимодействия между ними» [23, с. 108]. Безусловно, каждому из них отводится своя роль, но основное предназначение следователя состоит в том, что он – «объективный исследователь обстоятельств уголов- ного дела» [22, с. 162]. Как абсолютно точно подмечено Л.В. Головко, при предварительном расследовании следователь не «сторона обвинения», а нейтральное лицо, юридически обязанное действовать всесторонне, полно и объективно, расследуя дело, как говорят французы, «в сторону обвинения и в сторону защиты» [10, с. 62].
Принимая во внимание изложенное, в том числе приведенную трактовку раскрытия преступления, отметим потребность в корректировке формулировки, используемой в ч. 2 ст. 317.1, п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 317.5, п. 1 ч. 2 ст. 317.6, п.п. 1, 2 ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ. Таковую можно представить в следующем виде: «…какие действия он обязуется совершить в целях содействия органу дознания и следствию в раскрытии и исследовании преступления, выявлении и уголовном преследовании других соучастников преступления…».
Предложенное в предыдущем абзаце, как и в целом обозначенная позиция, имеет, по нашему мнению, ряд достоинств. Приведем некоторые из положительных последствий:
– позволяет устранить допущенную в законе неточность путем разграничения процессуальных и непроцессуальных понятий, в том числе с заменой «изобличения» на более приемлемое – «выявление»;
– способствует единому пониманию категории «раскрытие преступления»;
– разграничивает возлагаемые на органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, и органы следствия задачи;
– выстраивает основу для взаимодействия органа дознания и следственного подразделения, оперуполномоченного и следователя при раскрытии и расследовании (исследовании) преступлений;
– создает предпосылки к дальнейшему усовершенствованию досудебного производства.
Принимая во внимание, что в рамках данной статьи намечена лишь основа для дальнейшего усовершенствования досудебного производства, детальнее эти перспективы планируется проработать в последующих трудах.
Список литературы Использование понятия "раскрытие преступления" для определения задач предварительного расследования
- Азаров, В.А. Уголовно-процессуальная идеология и одноименная фразеология / В.А. Азаров // Вестник Оренбургского университета. – 2006. – N 3 (53).
- Алимджанов, Б. Раскрытие преступлений – задача следственных органов / Б. Алимджанов. – Ташкент, 1975.
- Бережко, Е.В. К вопросу о нравственной цели доказывания в уголовном судопроизводстве / Е.В. Бережко // Актуальные проблемы права России и стран СНГ : материалы IX международной научно-практической конференции. – Челябинск, 2007. – Ч. III.
- Булатов Б.Б. Процессуальное положение лиц, в отношении которых осуществляется обвинительная деятельность : монография. – М, 2013.
- Веселов, Ю.И. Понятие полного раскрытия преступлений / Ю.И. Веселов // Сборник статей адъюнктов и соискателей. Вып. 3. – М., 1971.
- Викторов, Б.А. Общие условия предварительного расследования / Б.А. Викторов. – М., 1971.
- Волов, В.Г. Об оценке эффективности деятельности по раскрытию преступлений / В.Г. Волов // Вопросы раскрытия и расследования преступлений : сборник научных трудов. – М., 1982.
- Гаврилов, А.К. Раскрытие преступлений на предварительном следствии (правовые и организационные вопросы) / А.К. Гаврилов. – Волгоград, 1976.
- Герасимов, И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений / И.Ф. Герасимов. – Свердловск, 1975.
- Головко, Л.В. Российский уголовный процесс и объективная истина / Л.В. Головко // Обвинение и защита по уголовным делам: исторический опыт и современность : сборник статей по материалам международной научно-практической конференции, посвященной 100-летию со дня рождения профессора Н.С. Алексеева (г. Санкт-Петербург, 28-29 июня 2014 г.) / под ред. Н.Г. Стойко. – СПб., 2015.
- Дяблова, Ю.Л. Некоторые аспекты соотношения раскрытия и расследования преступлений / Ю.Л. Дяблова // Известия Тульского государственного университета. – 2009. – N 1.
- Жогин, Н.В. Предварительное следствие в советском уголовном процессе / Н.В. Жогин, Ф.Н. Фаткуллин. – М., 1965.
- Кальницкий, В.В. Непосредственность судебного разбирательства и доказательственная деятельность органов расследования : учебно-практическое пособие / В.В. Кальницкий. – Омск, 2019.
- Карпец, И.И. Проблема преступности / И.И. Карпец. – М., 1969.
- Лавдаренко, Л.И. Раскрытие преступления как одна из задач органов предварительного расследования / Л.И. Лавдаренко // Сибирский юридический вестник. – 2013. – N 1 (60).
- Либозаев, Д.П. К вопросу о понятии раскрытия преступления / Д.П. Либозаев // Вестник Тверского государственного университета. Серия «Право». – 2015. – N 4.
- Лузгин, И.М. Расследование как процесс познания / И.М. Лузгин. – М., 1969.
- Махов, В.Н. Почему не проводятся неотложные следственные действия / В.Н. Махов // Следователь. – 2011. – N 7.
- Муравьев, К.В. Оптимизация процессуальной формы применения уголовного закона : монография / К.В. Муравьев. – М., 2019.
- Подольный, Н. Фантомы уголовного судопроизводства / Н. Подольный // Российская юстиция. – 2004. – N 4.
- Поляков, М.П. Национал-процессуализм как идеологическая основа отечественного уголовного процесса / М.П. Поляков // Пятьдесят лет кафедре уголовного процесса УрГЮА (СЮИ): материалы международной научно-практической конференции. – Екатеринбург, 2005. – Ч. 2.
- Ревенко, Н. И. Реализация следователем функции расследования преступлений в условиях состязательного предварительного производства / Н.И. Ревенко // Уголовное досудебное производство: проблемы теории и практики : материалы межвузовской научно-практической конференции. – Омск, 2004.
- Скоромников, К.С. Существующая система учета преступлений и раскрытия их нуждается в кардинальной реформе / К.С. Скоромников // Государство и право. – 2000. – N 1.
- Статкус, В.Ф. О двух проблемах нового УПК РФ / В.Ф. Статкус // Государство и право. – 2002. – N 9.
- Судницын, А.Б. Задачи предварительного расследования: правовая природа, система, проблемы реализации и пути совершенствования : монография / А.Б. Судницын. – Красноярск, 2019.
- Токманцев, Д.В. К вопросу о понятии раскрытия преступлений в уголовном праве / Д.В. Токманцев // Вестник Сибирского юридического института МВД России. – 2019. – N 2 (35).
- Чупилкин, Ю.Б. Содержание категорий «раскрытие», «расследование» и «раскрываемость» преступлений в российском законодательстве / Ю.Б. Чупилкин // Российская юстиция. – 2019. – N 4.
- Якубович, Н.А. Процессуальные функции следователя / Н.А. Якубович // Проблемы предварительного следствия в уголовном судопроизводстве : сборник научных трудов. – М., 1980.