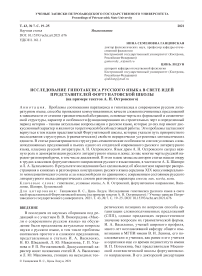Исследование гипотаксиса русского языка в свете идей представителей фортунатовской школы (на примере текстов А. Н. Островского)
Автор: Ганцовская Нина Семеновна, Цинь Лидун
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 7 т.43, 2021 года.
Бесплатный доступ
Проблемы соотношения паратаксиса и гипотаксиса в современном русском литературном языке, способы проявления коммуникативных качеств сложноподчиненных предложений в зависимости от степени грамматической абстракции, основные черты их формальной и семантической структуры, характер и особенности функционирования их строительных черт в определенный период истории - таковы актуальные вопросы науки о русском языке, которые до сих пор имеют дискуссионный характер и являются теоретической базой настоящей работы. Эти проблемы заставляют вернуться к тем идеям представителей Фортунатовской школы, которые указали путь приоритетного исследования структурных (грамматических) свойств иерархически устроенных синтаксических единств. В статье рассматриваются структурно-семантические особенности союзов условных сложноподчиненных предложений в пьесах одного из создателей современного русского литературного языка, классика русской литературы А. Н. Островского. Язык драм А. Н. Островского сыграл важную роль в демократизации русского литературного языка и донес до нас многие черты русской народно-разговорной речи, в том числе диалектной. В этом плане замыслы авторов статьи нашли опору в трудах классиков фортунатовского направления русского языкознания, в частности А. Б. Шапиро и Л. А. Булаховского. В результате исследования был сделан вывод об абсолютном характере распространения в книжных и разговорных конструкциях русского языка середины XIX века универсального моносемантического союза если и весомой роли по сравнению с современным состоянием русского литературного языка синкретических союзов разговорного характера ежели, как, когда, коли.
Гипотаксис, условные союзы, а. н. островский, фортунатовское направление, василенко, шапиро, булаховский
Короткий адрес: https://sciup.org/147236209
IDR: 147236209 | УДК: 811.161.1 | DOI: 10.15393/uchz.art.2021.676
Текст научной статьи Исследование гипотаксиса русского языка в свете идей представителей фортунатовской школы (на примере текстов А. Н. Островского)
В последнем из научных сборников под редакцией и с участием В. В. Виноградова «Мысли о современном русском языке» на обсуждение были предложены актуальные вопросы науки о русском языке, в том числе проблемы синтаксиса простого и сложного предложения, представленные в статьях И. А. Василенко, Н. Ю. Шведовой, Л. Ю. Максимова, Г. П. Уха-нова и Р. П. Рогожниковой. Дискуссионный характер носят положения статей И. А. Василенко и Л. Ю. Максимова, стоящих на несходных тео- ретических позициях по вопросам способа организации сложноподчиненных предложений (СПП), однако придающих первостепенное значение вопросам их грамматической формы. И. А. Василенко, ученый широкого профиля, много лет возглавлявший кафедру общего языкознания в МГПИ имени В. И. Ленина, его последователи и ученики, как ранее и его учителя и соратники еще со времен пединститута имени В. П. Потемкина, был представителем Московской лингвистической школы фортунатовского направления. В его докторской диссертации
анализировались многочленные сложноподчиненные предложения, подобные темы предлагались и аспирантам кафедры, в том числе одному из авторов этих строк, Н. С. Ганцовской, руководителем которой была М. С. Бунина, ученица А. Б. Шапиро.
***
В статье сборника «Проблема сложного предложения в науке о русском языке» И. А. Василенко, называя основной единицей синтаксиса предложение, констатирует: проблема сложного предложения «остается еще недостаточно разработанной» [4: 81]. Он дает аналитический обзор синтаксических учений о сложном предложении в науке о русском языке, где мы выделим тот его сегмент, в котором Иван Афанасьевич останавливается на рассмотрении этих проблем представителями фортунатовского направления, которое при сходстве основных позиций не было внутренне однородным. Так, говоря о дискуссии в 30-х годах XX столетия о сочинении и подчинении, он неодобрительно оценивает позицию М. Н. Петерсона, исключавшего из проблем синтаксиса сочинение и подчинение, понятия главного и придаточного предложения, и поддерживает «голос» А. М. Пешковско-го в защиту подчинения и сочинения: «основой синтаксиса является зависимость одних синтаксических величин от других» и «проблема сочинения и подчинения перерастает в вопрос о синтаксических связях вообще» [4: 83]. Мысли А. Б. Шапиро о цельности сложного предложения и необходимости его понимания со стороны главного и придаточного предложения сочувственно воспринимаются автором обзора, но вопросы «существенной коррективы» придаточных предложений, которые тот делит на «два типа в зависимости от наличия или отсутствия в главном предложении соотносительных слов, указательных местоимений или наречий», подвергаются сомнению. И. А. Василенко тут приводит сходное с ним мнение С. И. Абакумова, одновременно и положительное, и критическое, о принципах классификации придаточных предложений А. Б. Шапиро [4: 84]. Он находит интересным замечание А. Б. Шапиро о неустойчивости формального критерия при различении сложноподчиненных и сложносочиненных предложений, что дает основание не выделять сложные бессоюзные предложения в особый тип связи и распределять их между сочинением и подчинением [4: 86]. Во многом И. А. Василенко поддерживает мысль И. Г. Чередниченко о том, что нельзя во всех случаях пользоваться одной традиционной теорией о придаточных как развернутых членах главного, но критикует его за разнородность принципов выделения придаточных предложений в его классификации то по признаку морфологическому, то синтаксическому, то семантическому, то лексическому, то психологическому [4: 85]. И. А. Василенко положительно рассматривает трактовку сложных предложений В. В. Виноградовым как сложного единства (в этом плане привлекается мнение В. А. Белошапковой и других ученых), в котором нет прямого параллелизма между подчинением слов и подчинением предложений, выделение им бессоюзных сложных предложений в особый разряд построений, в то же время отмечая его многообразие дефиниций сложного предложения и их терминологическую неясность [4: 88–89]. Он полагает, что «положения академика В. В. Виноградова получают дальнейшее развитие в грамматических работах Н. С. Поспелова» [4: 89], который разработал теорию об од-ночленности и двучленности СПП. Эта теория, как утверждает И. А. Василенко, «развивает синтаксические идеи традиционного русского языкознания» и при этом делает отсылку к труду Ф. Ф. Фортунатова «Сравнительное языковедение. Лекции. Литограф. изд.» (стр. 229) [4: 90], однако И. А. Василенко не согласен с отождествлением в работах Н. С. Поспелова грамматической семантики сложного предложения с логическим понятием суждения. Также его не устраивает безоговорочное признание Н. С. Поспеловым позиций придаточных только как частей сложного предложения. Он сожалеет о том, что
«мысли Н. С. Поспелова об одночленности и дву-членности сложноподчиненных предложений относятся к построениям с одним придаточным. Приложимость этого принципа (одночленности и двучленности) к сложноподчиненным предложениям с двумя, тремя и большим количеством частей (простых предложений) требует дальнейших исследований» [4: 90].
К слову сказать, Н. С. Ганцовская в своей диссертации «Многокомпонентные сложноподчиненные предложения в научном стиле современного русского языка» (1967) сделала попытку осуществить эту идею.
И. А. Василенко в своей программной статье поднимает многие проблемы в области сложного предложения русского языка, которые, как он говорит, некогда ставили Ф. Ф. Фортунатов и А. А. Шахматов и которые требовали своего разрешения в русле грамматики. Например, он выдвигает на повестку дня изучение предложений с соподчинением и подчинением, сложного синтаксического целого, многочленных построений и др. [4: 92]. В последующие первые десятилетия подобные задачи в русском языкознании частично решались, но затем под напором новых идей были отодвинуты в сторону.
Л. Ю. Максимов, коллега И. А. Василенко по МГПИ, творчески разрабатывая идеи представителей русской синтаксической школы А. А. Шахматова – В. А. Богородицкого – Н. С. Поспелова – В. В. Виноградова и др., пришел к выводу о неизбежности структурносемантического описания сложных предложений. В статье сборника «Сложноподчиненное предложение в ряду других синтаксических единиц» он говорит о внешнем характере аналогии функций второстепенных членов простого предложения и соответствующих придаточных частей сложноподчиненного, которая не позволяет «считать сложноподчиненное предложение усложненным вариантом простого или его сложным аналогом» [10: 94]. Он полагает также, что «класс сложноподчиненных предложений не может быть в целом ни аналогией со словосочетанием, ни аналогией с простым предложением…» [10: 95], говоря же о ступенях грамматической абстракции, связанной с противопоставлением языка и речи, он считает, что
«признав… сложноподчиненное предложение в частности единицей коммуникативной, мы отнюдь не снимаем тем самым вопроса об их строении и функционировании в речи» [10: 100].
Для задач нашей статьи, где рассматриваются структурно-семантические особенности союзов условных СПП – а союзы – главные строительные средства гипотаксиса – в пьесах одного из создателей русского литературного языка, классика русской литературы А. Н. Островского, важно замечание Леонарда Юрьевича о том, что так называемые расчлененные структуры «скорее аналогичны простым предложениям с обстоятельственными детерминантами» [10: 95]. Действительно, во всех классификациях СПП признается, что придаточная часть обстоятельственных СПП функционально равноправна с главной частью в коммуникативной организации СПП расчлененной («двучленной») структуры. И основную роль в синтаксической структуре всей конструкции при этом более ярко, чем в «одночленных» структурах, играют союзы.
Поскольку язык драм А. Н. Островского и их строительных особенностей имел важное значение в демократизации русского литературного языка и донес до нас многие черты русской разговорной речи, в том числе диалектной, этой «живой старины» нашего национального языка, мы рассматриваем союзы условных предложений в пьесах драматурга как важнейшее средство построения предложений обусловленности, отражающих продуктивность этих конструкций в русском языке послепушкинского периода. В отечественных исследованиях последних лет неоднократно затрагивалась эта проблематика, поскольку в должной мере типологический статус подчинительных союзов русского языка еще не выявлен. Назовем некоторые из них, касающиеся проблематики условных союзов: [1], [2], [5], [9]. Также см. наши предыдущие наблюдения по этой теме: [7], [8], [11], [12]. В плане выяснения тенденций развития строительных средств гипотаксиса, уточнения их статуса в разные периоды становления русского литературного языка мы ищем поддержки в трудах классиков русского языкознания фортунатовского направления, в частности А. Б. Шапиро и Л. А. Булаховского, к трудам которых, как полагаем, надо обращаться многократно и систематически.
В наборе союзов условных сложноподчиненных конструкций в пьесах А. Н. Островского достаточно значима доля устаревших для нашего времени союзов с яркой окраской разговорности: коли, когда, кабы, ежели, ли, буде, раз , но нередко с резко контрастивной частотностью их употребления в его жанрово и хронотопически разнотипных пьесах. Важным, возможно, и первостепенным источником изучения их происхождения, как и вообще исторических фактов языка, по мысли А. А. Шахматова, являются не только памятники письменности, но и живые русские говоры, что демонстрирует А. Б. Шапиро в своих «Очерках по синтаксису русских народных говоров» [13]. Его труд позволяет комментировать историю происхождения и особенности структурирования при помощи этих союзов условных СПП в диалогах пьес А. Н. Островского, отражающих реальные черты разговорной речи широкой и преимущественно неэлитной части русского общества середины XIX столетия послепушкинского периода – купцов, их семейств и их окружения, мелких служащих, чиновников, мещан, актеров, провинциальных дворян и др.
Представим список слов, способных в определенной степени выявить наличие условных союзов в пьесах драматурга за весь период его творческой деятельности (1840–1880) в порядке их убывающей частотности, пользуясь суммарными итоговыми данными (по всем периодам творчества писателя и по его художественным и нехудожественным текстам) «Частотного словаря языка А. Н. Островского» (ЧСЯО)1: как (7960), ли (2877), если (2278), когда (1404), раз (877), коли (817), кабы (288), ежели (179), коль (109).
Оговоримся, что, во-первых, в ЧСЯО дан союз коль как самостоятельный, но на самом деле его надо рассматривать как речевой вариант союза коли , во-вторых, в ЧСЯО обобщены показатели частотности союзов не только в художественных текстах (пьесах) драматурга, но и в его нехудожественных произведениях, что должно дать представление о степени их продуктивности в разных стилях и жанрах русского языка того периода, в-третьих, уточним, что мы не рассматривали союзы условных предложений в «исторических» пьесах драматурга типа «Дмитрий Самозванец и Василий Шуйский», а только на синхронном срезе его пьес, отражающих особенности русского языка XIX века. Поэтому мы не указываем в списке союз буде , который, например, встретился в указанной здесь исторической пьесе драматурга.
В ЧСЯО, как и во всяком частотном словаре, представлены лексемы без расшифровки их семантики. В полной мере условными из приведенного выше списка слов можно считать только моносемантические союзы типа если, со -юзы же с синкретическими значениями типа как, когда, ли, раз поданы в предельно широком статистическом спектре одноименных единиц с другими лексико-грамматическими характеристиками. Это говорит о том, что развитие условных подчинительных союзов как структур гипотаксиса продолжается (впрочем, оно не окончено и к сегодняшнему дню). Более детальные сведения о продуктивности условных синтаксических скреп (союзов) в пьесах драматурга см. в приводимом ниже списке работ авторов статьи. Для примера дадим полную расшифровку сведений ЧСЯО об употребительности слова как (то же можно сделать для любого компонента списка) в художественных и нехудожественных текстах (в ЧСЯО обозначены соответственно как ХТ и НХТ) трех периодов деятельности А. Н. Островского. I (1840–1850-е годы): ХТ – 1560, НХТ – 209; II (1860-е годы): ХТ – 1947, НХТ – 260; III (1870–1880-е годы): ХТ – 2818, НХТ – 1160; общая частотность – 7960. Слово как оказывается самым частотным в этом списке: в ЧСЯО по причинам, изложенным выше, не указано, с каким значением употребляется слово как и каков его типологический статус, разумеется, лишь некоторая часть его фреквен-ции относится к условным конструкциям.
Дадим комментарий употребления условных союзов в гипотаксисе пьес драматурга, отражающих реальные особенности живой речи того периода, используя сведения, которые предоставляет о них А. Б. Шапиро. Описывая сложные предложения с подчинительными союзами в русских диалектах, каждому союзу ученый посвящает отдельный очерк и также рассматривает их в порядке убывающей частотности. Он говорит, что «союз как, наряду с союзом что, является одним из наиболее употребительных в говорах» и что «чаще всего при союзе как между подчиненным и подчиняющим предложениями отношение временное» [13: 86], но
«при той же точно структуре… отношения между предложениями может иметь дополнительный условный оттенок», который «воспринимается на основании реального содержания того и другого предложения» [13: 88].
Однако при лишении предложения оттенка «процессности» (вследствие отсутствия или «скрытности» сказуемого или выражения его инфинитивом) возможно и структурное выражение дополнительного оттенка обусловленности [13: 88]. Точно те же явления мы наблюдаем и в драматургии А. Н. Островского (из соображений экономии места здесь мы не приводим иллюстраций из текстов писателя, см. примеры в указанных наших статьях, описывающих условные конструкции в его пьесах).
Союз если , как отмечает А. Б. Шапиро, в разных вариантах в основном присущ южнорусским говорам, без вариантов встречается в северновеликорусских говорах, но он для них мало характерен по сравнению с союзом буде [13: 9697]. Однако буде совсем не встречается в неисторических пьесах Островского, а если прочно лидирует в русском литературном языке как самый частотный союз, имея (с XVII века) монозначение условия. По А. Б. Шапиро, в говорах «употребление союза ежели ничем не отличается от употребления союза если » [13: 97], но у А. Н. Островского, пожалуй, это один из самых малочастотных условных союзов, хотя он и моносемантический, подобно союзу если (не то, например, в «Войне и мире» Л. Н. Толстого, где союз ежели полностью вытеснил союз если ).
Союз когда , по словам А. Б. Шапиро, в северновеликорусских говорах
«довольно редок, соответствующие функции обычно выполняет союз как » [13: 93], «основное отношение между подчиняющим и подчиненным предложениями, выражаемое союзом когда, - временное» [13: 94].
А. Б. Шапиро замечает, что при этом союзе возможен «оттенок условности», «который, впрочем, не имеет грамматических показателей, а воспринимается на основании соотношения реального содержания того и другого предложения» [13: 95]. Это же мы наблюдаем и на материале пьес А. Н. Островского.
Союз кабы в говорах «служит для выражения условного значения», но его отличие от других условных союзов состоит в том, что
«посредством кабы указывается, что условие, при котором что-либо (то, о чем говорится в подчиняющем предложении) возможно, представляется на самом деле несуществующим, между тем как при если, ежели, лели вопрос о реальности или нереальности этого условия не имеет значения, а важен самый факт этой связи» [13: 99–100].
Союз коли (коль) в говорах (по А. Б. Шапиро) по своему значению ближе всего к союзу когда и имеет основную функцию – выражать временное значение, но вместе с тем может дополнительно выражать вместе с другими синтаксическими средствами также оттенок условности [13: 98]. У А. Н. Островского, как и вообще в общелитературном языке, этот союз, как и его вариант коль , употребляется только с условным значением. Отметим, что по материалам исследования устаревших союзов в современной публицистике выявлены единичные случаи употребления условных союзов коли (коль), кабы , которые используются как «средство исторической стилизации, придания колорита разговорной народной речи, а также как инструмент создания тропов» [6: 88–90].
Л. А. Булаховский в «Курсе русского литературного языка» в разделе «6. Сложное предложение. Союзы» также монографически раздельно, хотя и в лаконичной форме, рассматривает подчинительные союзы в современном русском литературном языке, «специально связывающие предложения, в отличие от тех, которые связывают и предложения, и их члены»2, и дает их обзор, иллюстрируя это материалом произведений русской классической литературы XIX и XX веков. Так, он перечисляет условные союзы (если (бы), ежели, кабы, когда (бы), коль скоро, коли, ли, раз и др.), анализируя их в сравнении друг с другом в структурно-семантическом, функционально-стилистическом и статистическом планах, используя примеры предложений из творчества Л. Толстого, Некрасова, А. К. Толстого, Гл. Успенского, Леонова, Фета, Безымян-ского, М. Литвинова, Н. Островского, Гоголя, Гладкова, Пушкина, Помяловского, Пришвина (орфография имен Л. А. Булаховского). Его тонкие наблюдения за функционированием этих союзов в процессе развития современного русского литературного языка в послепушкинский период поучительны во многих отношениях и важны для понимания динамики развития основных структурных средств СПП. Так, например, если « ежели , которое у некоторых классических писателей XIX в. соперничало, иногда даже преобладало над если» (тут он приводит примеры из текстов Л. Н. Толстого и Н. А. Некрасова), то
«у позднейших писателей ежели становится приметой народной речи и фигурирует наряду с другими средствами оттенить ее. Характерно, что в предложениях желания теперь употребляется только если б... »3. « Кабы ( каб ) и коли ( коль ) вносят колорит народной речи, причем последний союз может сочетаться с поэтическим стилем. Кабы чаще употребляется со значением желания или (при “не”) со значением сожаления…»4. « Когда в определенно-условном значении малоупотребительно и скорее относится к разговорному языку… <…> Когда бы сохранилось лучше и до сих пор ощущается как естественное в поэтическом языке…»5.
В монографии «Русский литературный язык первой половины XIX века» Л. А. Булаховский [3] на примерах из произведений Крылова, Грибоедова, Пушкина, Баратынского и др. показывает, что
«наряду с установившимся в настоящее время в качестве господствующего союза если , в первой половине XIX века употребляют без специальной стилистической окраски ежели и - намного чаще, чем теперь - коль и коли » [3: 411].
Для СПП драм А. Н. Островского этот тезис Л. А. Булаховского в целом верен, за исключением замечания о союзе ежели . К творчеству А. Н. Островского применимо и следующее высказывание Л. А. Булаховского о стилистике союза когда :
«Что касается употребительного наряду с если и ежели когда , то оно, вообще говоря, не имеет отчетливо выраженной стилистической окраски, хотя, по-видимому, и воспринималось как союз, эмоционально несколько более подчеркнутый и, может быть, с некоторым легким налетом просторечия…» (тут он приводит примеры СПП у Грибоедова, Гоголя, Лермонтова) [3: 414].
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, сопоставительный анализ условных союзных средств в СПП современного русского литературного языка середины XIX века на материале текстов пьес А. Н. Островского с опорой на труды классиков фортунатовского направления или, иначе, деятелей Московской лингвистической школы показал весомую роль (со стороны валёра, значимости и частотности) союзов со стилистической окраской разговорности (ежели, как, когда, коли), обнаруживающих синкретизм семантики обусловленности и иных функционально-детерминантных оттенков, имеющую или же не имеющую опору в других строительных средствах рассматриваемых гипотактических конструкций. И в то же время обнаружилось абсолютное преобладание характерного для всех этапов развития нового литературного языка по-слепушкинского периода моносемантического союза если , универсальный характер семантики которого позволил ему употребляться в разнообразных структурно-семантических модификациях как в книжных, так и разговорных сложноподчиненных конструкциях.
Список литературы Исследование гипотаксиса русского языка в свете идей представителей фортунатовской школы (на примере текстов А. Н. Островского)
- Апресян В . Ю., Пекелис О. Е. Подчинительные союзы. Материалы для проекта корпусного описания русской грамматики. На правах рукописи. М., 2012 [Электронный ресурс]. Режим доступа: Шр:// rusgram.ru (дата обращения 30.06.2019).
- Беднарская Л. Д. Сложное предложение в языке русской лирики XIX- XX столетий. Орел: Изд-во Орлов. гос. ун-та, 2012. 391 с.
- Булаховский Л. А. Русский литературный язык первой половины XIX века. М.: Гос. учебно-пед. изд-во Мин-ва просвещения РСФСР, 1954. 468 с.
- Василенко И. А. Проблема сложного предложения в науке о русском языке // Мысли о современном русском языке: Сб. ст. / Под. ред. акад. В. В. Виноградова; Сост. А. Н. Кожин. М.: Просвещение, 1969. С. 81-93.
- Галкина Н . П . Типология строительных средств условных сложноподчиненных предложений в произведениях естественнонаучного цикла // Вестник Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова. Научно-методический журнал. 2013. Т. 19. Основной выпуск. № 1. С. 55-58.
- Галкина Н . П. Роль и место устаревших союзов в современной публицистике // Известия Смоленского государственного университета, 2021. № 1 (53). С. 86-101. БОТ: 10.35785/2072-9464-2021-53-1-86-101
- Ганцовская Н . С., Цинь Лидун. Конкуренция условных союзов как фактор проявления дискретности в развитии гипотаксиса русского языка (на материале драматургии А. Н. Островского) // Континуальность и дискретность в языке и речи: Материалы VII междунар. науч. конф. (Краснодар, 24-28 окт. 2019 г.). Краснодар: Кубанский гос. ун-т, 2019. С. 11-15.
- Ганцовская Н. С., Волкова Е. Б., Цинь Лидун. Развитие средств гипотаксиса в после-пушкинскую эпоху: весенняя сказка А. Н. Островского «Снегурочка» // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2020. Т. 42, № 1. С. 82-85. БОГ 10.15393^^^.2020.436
- Кульпина Е. Р. Полифункциональные союзы в русских говорах Карелии // Рябининские чтения -2003 / Редкол.: Т. Г. Иванова (отв. ред.) и др.; Музей-заповедник «Кижи». Петрозаводск, 2003 [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://kizhi.karelia.ru/library/authors/kulpina-er (дата обращения 13.09.2019).
- Максимов Л. Ю. Сложноподчиненное предложение в ряду других синтаксических единиц // Мысли о современном русском языке: Сб. ст. / Под. ред. акад. В. В. Виноградова; Сост. А. Н. Кожин. М.: Просвещение, 1969. С. 93-104.
- Цинь Лидун. Развитие средств гипотаксиса в русском литературном языке послепушкинского периода (на примере условных союзов пьес А. Н. Островского) // Языковые категории и единицы: синтагматический аспект: Материалы XIII междунар. науч. конф., посвящ. 90-летию проф. А. Б. Копелиовича и 100-летию педагогического образования во Владимирской области (Владимир, 24-26 сент. 2019 г.). Владимир: ВлГУ: Транзит-ИКС, 2019. С. 446-452.
- Цинь Лидун. Гипотактические условные конструкции в пьесах А. Н. Островского как этап в развитии русского литературного языка (на материале пьесы «Свои люди - сочтемся») // Духовно-нравственные основы русской литературы: Сб. науч. ст. / Науч. ред. Н. Г. Коптелова; Отв. ред. А. К. Котлов. Кострома: КГУ, 2020. С 151-154.
- Шапиро А. Б. Очерки по синтаксису русских народных говоров. Строение предложения / Отв. ред. Р. И. Аванесов. М.: Наука, 1953. 319 с.