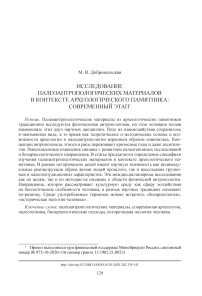Исследование палеоантропологических материалов в контексте археологического памятника: современный этап
Автор: Добровольская М.В.
Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran
Статья в выпуске: 262, 2021 года.
Бесплатный доступ
Палеоантропологические материалы из археологических памятников традиционно исследуются физическими антропологами, на этом основана тесная взаимосвязь этих двух научных дисциплин. Поле их взаимодействия сохранилось в неизменном виде, в то время как теоретические и методические основы и возможности археологии и палеоантропологии коренным образом изменились. Концепции антропогенеза, этноса и расы переживают кризисные годы и даже десятилетия. Революционные изменения связаны с развитием палеогеномных исследований и биоархеологического направления. В статье предлагается определение специфики изучения палеоантропологических материалов в контексте археологического памятника. В рамках исторических целей имеют научную значимость как индивидуальные реконструкции образа жизни людей прошлого, так и воссоздание групповых и палеопопуляционных характеристик. Эти междисциплинарные исследования как по целям, так и по методам не сводимы к области физической антропологии. Направление, которое рассматривает культурную среду как сферу воздействия на биологические особенности человека, в разных научных традициях называют по-разному. Среди употребляемых терминов можно встретить «биоархеология», «историческая экология человека».
Палеоантропологические материалы, современная археология, палеогеомика, биоархеологические подходы, историческая экология человека
Короткий адрес: https://sciup.org/143176001
IDR: 143176001 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.262.129-141
Текст научной статьи Исследование палеоантропологических материалов в контексте археологического памятника: современный этап
Поле пересмотра концепций
Специфика современного этапа работы с палеоантропологическими материалами из археологических памятников состоит не только в бурном развитии методик, позволяющих расширить наши фактические знания о людях прошлого. Она также связана с кризисом ряда основополагающих концепций.
Концепции антропогенеза претерпели ключевые трансформации за последние десятилетия. Связано это, прежде всего, с развитием междисциплинарных взаимодействий между археологами и палеогенетиками, которые вывели теории мультирегионализма и моноцентризма на совершенно новый уровень (Деревянко, 2009; 2011; Козинцев, 2013; Деревянко и др., 2020). Прочтение геномов неандертальцев, открытие Денисовского человека, секвенирование даже представителей Homo geidelbergensis и другие важнейшие открытия позволили убедиться в многократных эпизодах гибридизации на самых разных уровнях эволюции рода Homo, а также в смешении между сапиенсами, неандертальцами, денисовцами и представителями некоторых локальных архаических людей в различных частях ойкумены (Meyer et al., 2016). Нет смысла перечислять многочисленные важнейшие открытия в этой области. Внимание хотелось бы акцентировать на другом. Междисциплинарный уровень исследования помогает обдумывать особенности сапиенса, ставшие решающими в его исторической судьбе. Вот что пишет А. Г. Козинцев: «Мы порой склонны сравнивать мигрантов из Африки чуть ли не с европейскими колонизаторами недавних веков. А ведь у ранних сапиенсов не было ни ружей, ни лошадей, ни даже верхнепалеолитической технологии, позволившей их потомкам в более позднее время вытеснить неандертальцев из Европы. Все это появилось намного позже. А тогда, в среднем палеолите, было лишь одно – более совершенное мышление. Быть может, незаметное для нас и лишь впоследствии проявившееся в материальной культуре умение особенно удачно адаптироваться к местным условиям и было главной психологической и поведенческой чертой, обеспечившей са-пиенсам «мирную победу»?» (Козинцев, 2013. С. 531). С. Пэабо в своей книге «Неандерталец. В поисках исчезнувших геномов» также описывает не только практически детективную историю исследовательской гонки за древними геномами, но и обращается к сугубо гуманитарным проблемам: «Замечательное место – наш институт в Лейпциге. Там все занимаются более или менее одним вопросом: что значит “быть человеком”» (Пэабо, 2018. С. 293). Или «если ориентироваться на имеющиеся данные по неандертальскому геному, общее число модифицированных позиций у людей составляет порядка 100 тысяч. Эта цифра и есть точный ответ на вопрос “Что делает человека человеком”, по крайне мере, с точки зрения генетики» (Там же. С. 395). В этих осторожных, зачастую ироничных формулировках читается стремление к постижению сути возникновения «хомосферы» жизни на Земле, которая не исчерпывается явлениями биологического порядка.
Глубокий кризис в мировой науке переживает концепция расы. Этому посвящены и статьи, и обсуждения на интернет-порталах. Здесь есть как непримиримые сторонники, так и те, кто пытается свести острую дискуссию к рассмотрению вопросов терминологии. Безусловно, наиболее ярко эти изменения происходят в научных школах тех стран, для которых результаты древней дифференциации человечества оказались связанными с реалиями социальных конфликтов (AAPA statement…, 1996).
Не менее драматично развивается кризис понятия «этнос»: «Современные мировые реалии диктуют расширение горизонта этнологической науки, отход от этничности в пользу культурного разнообразия, проявляющегося в различных аспектах человеческого бытия. Трансформация объекта исследования влечет за собой новый терминологический аппарат – этнология превращается в социальную антропологию» (Тишков, 2003. С. 117). Налицо общий кризис концепций жесткой структурности в дифференциации человечества как в биологическом отношении, так и в культурном.
«Третья научная революция» в археологии?
Одной из актуальных тем работы конференции Европейской ассоциации археологов (European Association of Archaeologists – ЕАА) в Маастрихте в 2017 г. была тема «третьей научной революции в археологии». В частности, отмечалось: в 2014 г. Кристиан Кристиансен, бывший президент EAA, отметил, что «сейчас мы переживаем самые захватывающие времена в археологии – по крайней мере, при моей жизни». По его словам, в последнее десятилетие мы являемся свидетелями «третьей научной революции» в археологии. «Первая научная революция» происходила в период между 1850–1860 гг., когда археология начала взаимодействовать с исследованиями в области культурной, биологической и геологической эволюции; «вторая научная революция» 1950–1960 гг. связана с введением радиоуглеродного датирования в археологию. Для ученого разработки, связанные с «третьей научной революцией» в археологии, относятся к: 1) «большим данным», 2) новому количественному моделированию и 3) результатам древней ДНК, изотопов стронция и связанных с ними научных методов» (EAA 2017… ). Аналогичный взгляд на революционные изменения, связанные принципиальным методическим переоснащением археологии, высказал Е. Н. Черных на конференции «Естественнонаучные методы исследований и парадигма современной археологии» (Москва, 8–11 декабря 2015). Таким образом, мы наблюдаем своего рода взрывную динамику развития самых разных сторон исследований, связанных с палеоантропологическими материалами в археологии. Привлекательность палеогенетических исследований, обещающих «рассказать историю человечества», неоспорима. Зачастую это становится проблемой, связанной со слишком большим вниманием к самим методам и снижением уровня самой историко-культурной проблематики, в центре которой находится человек как создатель культурной среды и ее же обитатель. В частности, этому было посвящен доклад С. Райнхольд «Является ли в 21-м веке биоархеология по-прежнему частью гуманитарных наук?» на конференции «Археология XXI века», которая проходила в июне 2019 г. в Москве в связи со столетним юбилеем российской академической археологии (Archaeology in the 21st century…, 2019).
Чтобы рассуждать о научной, а не только методической революции, конечно же, надо «предъявить» профессиональной среде те результаты, которые значительно развивают археологическое знание и не могли быть получены ранее. За последние пять лет были сделаны многочисленные прорывные палеогене-тические исследования как в области антропогенеза, так и изучения сложения населения эпохи голоцена. Исследователи ставили перед собой амбициозные масштабные цели. Вот некоторые из этих масштабных сюжетов:
«Популяционная геномика мезолитической Скандинавии: изучение путей ранней послеледниковой миграции и адаптация к высоким широтам» ( Günther et al. , 2018). Исследователи выделяют две ранние постледниковые миграции:
с юга и северо-востока. Это были популяции, значительно различавшиеся генетически и фенотипически, в частности – пигментацией кожи, глаз, волос. Направленные навстречу друг другу миграционные потоки приводят к древнему смешению на севере Европы. Исследование выполнено на семи геномах. Принципы работы с палеоантропологическими материалами в классической антропологии позволили бы сделать лишь предположение, но не вывод, так как в основе этого палеоантропологического анализа лежит информация об изменчивости, что требует более многочисленных материалов.
«Древние геномы предполагают наличие трех предковых популяций современных европейцев» ( Lazaridis et al. , 2014). Гены мезо-неолитического населения Европы позволили выделить три основных генетических «блока», формировавших население Европы в каменном веке: западные охотники-собиратели собственно европейского происхождения, восточные охотники-собиратели – северо-восточные евразийцы, выходцы с территории Сибири и ближневосточное население, распространившееся в Европы в связи с неолитической миграцией. Эти компоненты стали «координатами», с которыми сравнивают все геномные данные с целью изучения истории происхождения какого-то населения, связанного с Европой.
Палеогеномные исследования подтвердили, что неолитизация Европы инициирована миграционным потоком ближневосточного населения, но осуществлялась в процессе сложных смешений с древним европейским населением ( Haak et al. , 2010), обосновали «генетическое формирование» Европы в результате массивной миграции степного населения в период раннего бронзового века ( Haak et al. , 2015). В целом, были поставлены точки над «i» в вопросах о роли крупномасштабных миграций в формировании населения большинства территорий Евразии.
Крупные палеогеномные исследования в своем названии зачастую содержат число публикуемых геномов, что однозначно указывает на активную фазу накопления материалов: «Саймон проект разнообразия генома: 300 геномов и 142 популяций» ( Mallick et al. , 2016), «137 геномов древних людей со всех концов Евразийских степей» ( Damgaard et al. , 2018). В других работах обозначены обширные территории и исторические периоды, в пределах которых характеризуются массивы населения: «Популяционная геномика бронзового века Евразии» ( Allentoft et al. , 2015), «Генетическая история Европы ледникового периода» ( Fu et al. , 2016), «Геномная история Юго-Восточной Европы» ( Mathieson et al. , 2018). Другие работы ориентированы на выяснение генетических особенностей и происхождения населения, представляющего археологические культуры или исторические общности: «Генетическое происхождение минойцев и микенцев» ( Lazaridis et al. , 2017), «Геномное происхождение скандинавского населения культуры боевых топоров и их связь с более широким горизонтом носителей традиций шнуровой керамики» ( Malmström et al. , 2019), «Популяционная геномика мира викингов» ( Margaryan et al. , 2020).
Итак, масштабные проекты последних лет в основном были посвящены крупным миграциям (индоевропейской или неолитической и пр.), долговременным трендам в динамике геномного состава населения, процессам смешения в масштабах огромных субконтинентальных территорий (степь Евразии, Европа, Океания). Появляются еще более масштабные работы, например:
«Пространственно-временное распространение миграций людей в европейском голоцене» ( Rosimo et al. , 2020). В исследовании сопоставляются крупные миграции с динамикой изменения экосистем в Европе.
В связи с этим процитирую аналитическую статью «Последние тренды в ар-хеогенетических исследованиях западных евразийцев»: «В течение последних десяти лет археогенетические исследования экспоненциально расширились, изучая генетическую историю человеческих популяций с использованием полногеномных данных большого числа древних людей. На всем земном шаре Европа и Ближний Восток – это регионы, где данных о древней ДНК больше всего: в настоящее время опубликовано более 2500 геномов. Мы сосредоточимся на археологических контекстах, которым уделялось меньше внимания в литературе, особенно на тех, которые связаны с западноевразийскими охотниками-собирателями, а также с населением железного века и более поздних исторических периодов. Кроме того, мы подчеркиваем, что происходит переход от общеконтинентальных к региональным и даже местным исследованиям, которые начинают давать новое понимание социокультурных аспектов прошлых обществ» ( Olalde, Posth , 2020. С. 36). Хочется согласиться с авторами: важность этих крупных открытий бесспорна. Но, когда мы видим миграционные потоки, выраженные крупными стрелками через тысячи километров, возникает необходимость понимания того, как происходил этот «перенос генов», каковы были реальные обстоятельства жизни людей, результаты которых фиксируются методами палеогеномики?
Возможность подробной реконструкции частной жизни людей прошлого – другое направление, также получившее мощную методическую основу. Изучение состояния здоровья, мобильности, питания, демографичсеких осо-беностей – все эти направления уже стали рутинной темой практически любых международных конференций. В сочетании с палеогенетическими подходами они приобретают новое значение. Так, например, изучение геномного разнообразия и индивидуальной мобильности на основе данных о составе изотопов стронция в эмали зубов людей из раннесредневековых городов Северо-Западной Европы ( Krzewińska et al. , 2018) показало отсутствие связи между родственными узами и географическим нахождением индивида. Это позволяет увидеть население городов викингов не как совокупность различных популяций, а как единую систему на большой территории с хорошо развитыми родственными связями.
Иногда индивидуальные реконструкции, раскрывающие «историю жизни» одного индивида, могут оказаться не менее ценны для реконструкции событий обыденной истории, чем масштабные обобщения. Так, исследования прекрасно сохранившегося подкурганного погребения в болотистых грунтах Дании, ставшего известным как «девушка Эктвед», позволили убедиться в том, что жившая примерно 3400 лет назад женщина, активно путешествовала на протяжении нескольких месяцев перед кончиной. Изотопный состав стронция, свинца и кислорода дает возможность утверждать, что ее детство проходило, скорее всего, в сотнях километров от места погребения. Одежды, в которые она была убрана, также не местного производства ( Frei et al. , 2015). Это фактические свидетельства индивидуальной мобильности и торговых контактов.
Для истории и мегамасштабные, и индивидуальные исследования ценны. Крупные обобщения притягательны открытием больших явлений, но важно учитывать, что многие из них в историческом отношении – исследовательские конструкты, а их событийная реальность нам остается неизвестной, если мы не проводим исследования, позволяющие обнаружить их проявления в реальных событиях, происходивших в жизни людей. Поэтому в современных исследованиях палеоантропологических материалов из археологических памятников не менее значим жанр «история жизни» ( Larsen , 2002). Так, изучение внутри-индивидуальной изменчивости изотопного состава углерода и азота позволяет «заглянуть в индивидуальные биографии» ( Eriksson, Lidén , 2013. P. 288), наблюдая динамику состава пищевых рационов. Итак, появляется возможность переходить с одного уровня исследования на другой, фокусируясь на реальных событиях и обобщениях, на конкретных персонах прошлого и исторической динамике населения обширных территорий. Такая структура исследований позволяет если и не всегда ответить на вопрос, почему происходили те или иные значительные изменения в жизни обществ прошлого, то хотя бы определить, какие именно факторы были наиболее значимы для людей. Концепция стресса, включая представление о реакции организма на внешнее воздействие различной силы, позволяет нам выявлять факторы, которые обусловили изменения биологических особенностей скелета. Исследование системы среда – человек, как известно, составляет основу экологического подхода.
Уроборос2 «человек – окружающая среда»
То, что культурная среда (в широком смысле этого термина) составляет основную долю экологических воздействий, доказывать в настоящее время уже не приходится. Физический статус человека зависит от ряда социально-экономических параметров; войны, массовый голод, пандемии влияют на демографические параметры населения. Структура браков, численность детей, социальные гендерные предпочтения – все эти культурные паттерны имеют биологические последствия. Человек создает среду, а среда формирует человека: это устойчивая и динамичная система.
С появлением палеогеномики мы можем предметно задаваться вопросами, какие именно факторы оказывали наиболее существенное влияние на людей в эпоху первобытности и в периоды развития технологий исторического времени. Появилась также возможность не только наблюдать историческую динамику биологического разнообразия человечества, но и выявлять факторы культурной сферы, оказавшие через действие естественного отбора и автоматических генетических процессов наибольшее воздействие на людей, живших в различные эпохи.
И здесь оказались совершенно неожиданными новости в изучении, например, мезолитического или неолитического периода в Европе. Так, знаменитый мужчина из Гуч Кэйв (мезолит, Британия), ранее изображавшийся на всех реконструкциях светлокожим шатеном с темными глазами, оказался темнокожим синеглазым с темными вьющимися волосами. Фенотип – сегодня уже не существующий в современном человечестве, но неоднократно отмеченный для мезолитического населения Северной и Западной Европы (Olalde et al., 2014; Jensen et al., 2019; Brace et al., 2019). Экологическая гипотеза о происхождении раннего очага депигментации в Северной Европе, связанного с ограниченной инсоляцией, похоже, выглядит теперь иначе. Расселение более светло пигментированных людей в процессе крупных миграций в эпоху бронзы в северные районы Европы оказалось для них вполне успешным с точки зрения защиты от недостаточной инсоляции. В этой же среде закрепилась мутация, позволяющая взрослым пить цельное молоко, появившаяся, вероятно, у представителей ямной общности. Благодаря палеогенетическим исследованиям мы начинаем на новом уровне понимать, насколько сложна связь между культурой и физическим обликом человека. Поэтому человек, социум в контексте конкретной культурно-исторической ситуации – тематика междисциплинарная.
Палеоантропология и биоархеология
Итак, в изучении прямых физических источников знания о человеке прошлого – его останков – чрезвычайно важен археологический контекст. Без него мы сразу оказываемся вне исторической реальности. Погребальный памятник – основной объект, в контексте которого мы изучаем палеоантропологические материалы. Сохранившиеся к моменту раскопок останки людей – искаженное отражение социума, оставившего этот могильник. Важно понять сам характер этого искажения, чтобы вынести верное суждение о самом населении.
Один из ярких примеров таких искажений – остеологический парадокс (Wright, Yoder, 2013), связанный, в частности, с тем, как мы интерпретируем сведения о погребенных с наличием или отсутствием патологических проявлений. Так, люди, ушедшие из жизни в результате стремительно развившейся болезни, будут погребены без палеопатологических «следов». Индивиды, которые были способны длительное время сопротивляться какому-то недугу, будут погребены уже со следами костных перестроек, связанных с этим заболеванием. Одних мы будем интерпретировать как больных, а других – как здоровых, хотя это совершенно не так3. Да и остается дискуссионным вопрос: как оценить состояние здоровья в социуме в том случае, если люди из-за неприспособленности иммунной системы быстро умирают от инфекционного заболевания или остаются в живых, но многие годы проводят в болезни? Специального обсуждения требуют очень высокий или очень низкий процент погребений детей в возрасте до одного или трех лет. Здесь также могут быть вынесены самые различные суждения: специфика погребальной обрядности, высокая рождаемость, очень высокая детская смертность и пр. В каком-то смысле эта проблема сходна с той, которую приходится решать специалисту, исследующему погребальный инвентарь. В наборе вещей могут быть предметы, которые использовались при жизни (посуда, украшения, орудия), но их смысл в погребальной обрядности не сводим к утилитарному. В крайне редких случаях можно встретить неискаженную картину, например – захоронения при эпидемиях.
Палеоантропологические материалы из археологического памятника с учетом трансформаций, возникших в процессе формирования этого погребального памятника, являются предметом исследования группы древнего населения. Они будут базироваться на индивидуальных характеристиках пола, возраста, состояния здоровья, общего морфологического облика, параметров физического развития, основных видов нагрузок, достаточности и состава питания, мобильности на протяжении жизни. Реконструкции такого рода, как правило, называются биоархеологическими. На основании обобщения индивидуальных характеристик строится биоархеологическая реконструкция группы из погребального памятника.
Термин «биоархеология» имеет свою историю. В отношении исследования останков людей в контексте археологического памятника он был введен Джейн Байкстрой (США) ( Buikstra , 1977), получил широкое распространение и является международно признанным – вошел в энциклопедии и словари. Термин «биоархеология» с трудом приживается на отечественной почве: «Полезность “новой антропологии” или, как ее еще уж совсем необоснованно называют, “биоархеологии”, никаких сомнений не вызывает. Но в рамках нашей темы понятно, что эти исследования мало что дают для изучения этногенеза» ( Яблонский , 2011. С. 100). Л. Т. Яблонский, совмещая в себе профессионального археолога и антрополога, неоднократно писал о том, что подобные работы не относятся к сфере физической антропологии: «Не вызывает сомнений значимость подобного рода исследований, особенно для археологов и их научных отчетов. Но, строго говоря, хотя методически они проводятся на антропологическом (костном) материале, в категорию собственно антропологических исследований они не попадают…» (Там же. С. 100). Нельзя не согласиться в этом суждении с автором. Таким образом, изучение антропологических материалов в археологическом контексте ставит перед собой иные цели, уже «биоархеологические», а не изучение биологической изменчивости.
Появление исследований, обращенных к реконструкции обстоятельств жизни реальных людей прошлого, формируют простые вопросы:
Как долго он (они) жил?
Почему он умер?
Какова была его внешность, выраженная в морфологических параметрах?
Каков был его биологический пол и можно ли судить о его гендере?
Был он здоров или болен?
Что он обычно ел и пил?
Какие физические нагрузки были для него привычными?
Погребен ли он там, где прошла его жизнь, или прибыл издалека?
Покоится ли он рядом со своими родственниками?
Насколько высоко, судя по погребальному обряду, было его социальное положение?
Список этих вопросов может быть продолжен и будет меняться в зависимости от контекста памятника. Методы, позволяющие с большей или меньшей уверенностью получать суждения, многообразны. Большая часть методик связана с приборными технологиями; специалист, работающий с палеоантропологическими материалами, проявляет свою квалификацию в постановке цели (например, увидеть определенную внутреннюю структуру или узнать белковый состав и пр.) и в осведомленности в возможностях методов в большей степени, чем во владении этими методами. В этом тоже проявляется специфика современного этапа.
При подобном подходе сохраняется ценность индивида, некоей археологической персоны, личности, имени кого мы чаще всего не знаем, но можем воссоздать различные ее биологические характеристики, а также особенности образа жизни, в котором выражается культурная традиция. И, наконец, мы можем анализировать реакцию социума на эту персону в специфике погребальной обрядности.
Заключение
Итак, современные исследования палеоантропологических материалов из археологических памятников имеют свои особенности, обусловленные как успешным развитием методик (прежде всего, в областях палеогеномики, палеопатологии, биоархеологии), так и пересмотром концептуальных представлений о исторической дифференциации человечества. «Индивид» и «археологический памятник» остаются основой для изучения системы «культурная среда – человек». На основании характеристик индивидов, реконструкций их «биологических биографий», особенностей погребальной обрядности воссоздается облик населения, отраженного в погребальном памятнике. Обоснованная картина этой структурности может служить независимым источником для гипотез об идентичностях и формах их выражения.
Список литературы Исследование палеоантропологических материалов в контексте археологического памятника: современный этап
- Алексеев В. П., 1966. Остеометрия. Методика антропологических исследований. М.: Наука. 251 с.
- Алексеев В. П., 1979. Историческая антропология М.: Высшая школа. 216 с.
- Алексеев В.П., Дебец Г.Ф. 1964. Краниометрия. Методика антропологических исследований. М.: Наука. 128 с.
- Деревянко А. П., 2009. Переход от среднего к верхнему палеолиту и проблема формирования Homo sapiens sapiens в Восточной, Центральной и Северной Азии. Новосибирск: ИАЭТ СО РАН. 328 c.
- Деревянко А. П., 2011. Формирование человека современного анатомического вида и его поведения в Африке и в Евразии // АЭАЕ. № 3 (47). С. 2–31.
- Деревянко А. П., Шуньков М. В., Козликин М. Б., 2020. Кем были денисовцы // АЭАЕ. Т. 48. № 3. С. 3–32.
- Козинцев А. Г., 2013. Происхождение и ранняя история вида Homo sapiens: Новые биологические данные // Фундаментальные проблемы археологии, антропологии и этнографии Евразии / Отв. ред.: В. И. Молодин, М. В. Шуньков. СПб.: Кунсткамера. С. 519–535.
- Пэабо С., 2018. Неандерталец. В поисках исчезнувших геномов / Пер. Е. Наймарк. М.: АСТ. 416 с.
- Тишков В. А., 2003. Реквием по этносу: Исследования по социально-культурной антропологии. М.: Наука. 544 с.
- Хрисанфова Е. Н., Перевозчиков И. В., 2005. Антропология. 4-е изд. М.: Наука. 400 с.
- Черных Е. Н., Добровольская М. В., 2015. От редакторов-составителей // Естественнонаучные методы исследования и парадигма современной археологии. М.: ИА РАН. 160 с.
- Яблонский Л. Т., 2011. Кризис концепции этногенеза? // Вестник антропологии. Вып. 19. C. 96–103.
- AAPA statement on biological aspects of race // American Journal of Physical Anthropology. 1996. Vol. 101. Iss. 4. P. 569–570.
- Allentoft M., Sikora M., Sjögren K. G. et al., 2015. Population genomics of Bronze Age Eurasia // Nature. Vol. 522. P. 167–172 (2015).
- Archaeology in the 21st century, June 26–27, 2019. Сonference program with abstracts, 2019. URL: https://www.archaeolog.ru/media /2019 /konferencii_2019/xxi
- Brace S., Diekmann Y., Booth T.J., Faltyskova Z., Rohland N., Mallick S., Ferry M., Michel M., Oppenheimer J., Broomandkhoshbacht N., Stewardson K., Walsh S., Kayser M., Schulting R., Craig O. E., Sheridan A., Parker Pearson M., Stringer C., Reich D., Thomas M. G. and Barnes I., 2019. Population Replacement in Early Neolithic Britain // Nat EcolEvol 3, 765–771. https://doi. org/10.1038/s41559-019-0871-9
- Buikstra J. E., 1977. Biocultural Dimensions of Archeological Study: A Regional Perspective // Biocultural Adaptation in Prehistoric America / Ed. R. L. Blakely: Athens: University of Georgia press. P. 67–84. (Southern Anthropological Society Proceedings; no. 11.)
- Damgaard P. d. B., Marchi N., Rasmussen S. et al., 2018. 137 ancient human genomes from across the Eurasian steppes // Nature. Vol. 557. Р. 369–374. EAA 2017 Maastricht 30 August – 3 September 2017. URL: http://www. eaa2017maastricht.nl/theme4
- Eriksson G., Lidén K., 2013. Dietary life histories in Stone Age Northern Europe // Journal of Anthropological Archaeology. Vol. 32. Iss. 3. P. 288–302.
- Frei K. M., Mannering U., Kristiansen K., Allentoft M. E., Wilson A. S., Skals I., Tridico S., Nosch M. L., Willerslev E., Clarke L., Frei R., 2015. Tracing the dynamic life story of a Bronze Age Female // Scientific Reports. 5, 10431.
- Fu, Q., Posth, C., Hajdinjak, M. et al., 2016. The genetic history of Ice Age Europe // Nature. Vol. 534. P. 200–205.
- Günther T., Malmström H., Svensson E. M. et al., 2018. Population genomics of Mesolithic Scandinavia: Investigating early postglacial migration routes and high-latitude adaptation // PLoS Biology. Vol. 16. Iss. 1, e2003703.
- Haak W., Balanovsky O., Sanchez J. J., Koshel S., Zaporozhchenko V., Adler C. J., Der Sarkissian C. S. I., Brandt G., Schwarz C., Nicklisch N., Dresely V., Fritsch B., Balanovska E., Villems R., Meller H., Alt K. W., Cooper A., 2010. Ancient DNA from European early neolithic farmers reveals their near eastern affinities // PLoS Biology. Vol. 8. Iss. 11, e1000536.
- Haak W., Lazaridis I., Patterson N. et al., 2015. Massive migration from the steppe was a source for Indo-European languages in Europe // Nature. Vol. 522 (7555). P. 207–211.
- Jensen T. Z. T., Niemann J., Iversen K. H. et al., 2019. A 5700 year-old human genome and oral microbiome from chewed birch pitch // Nature Communications. Vol. 10, 5520.
- Krzewińska M., Kjellström A., Günther T., Hedenstierna-Jonson C., Zachrisson T., Omrak A., Yaka R., Kılınç G.M., Somel M., Sobrado V., Evans J., Knipper C., Jakobsson M., Storå J., Götherström A., 2018. Genomic and Strontium Isotope Variation Reveal Immigration Patterns in a Viking Age Town // Current Biology. Vol. 28. Iss. 17. P. 2730–2738.
- Larsen C. S., 2002. Bioarchaeology: The Lives and Lifestyles of Past People // JAR. Vol. 10. No. 2. P. 119–166.
- Lazaridis I., Mittnik A., Patterson N. et al., 2017. Genetic origins of the Minoans and Mycenaeans // Nature. Vol. 548 (7666). P. 214–218.
- Lazaridis I., Patterson N., Mittnik A. et al., 2014 Ancient Human Genomes Suggest Three Ancestral Populations for Present-Day Europeans // Nature. Vol. 513 (7518). P. 409–413.
- Mallick S., Li H., Lipson M. et al., 2016. The Simons Genome Diversity Project: 300 genomes from 142 diverse populations // Nature. Vol. 538. P. 201–206.
- Malmström H., Günther T., Svensson E. M., Juras A., Fraser M., Munters A. R., Pospieszny L., Tõrv M., Lindström J., Götherström A., Storå J., Jakobsson M., 2019. The genomic ancestry of the Scandinavian Battle Axe Culture people and their relation to the broader Corded Ware horizon // Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences. Vol. 286 (1912), 20191528.
- Margaryan A., Lawson D. J., Sikora M. et al., 2020. Population genomics of the Viking world // Nature. Vol. 585. Р. 390–396.
- Mathieson I., Alpaslan-Roodenberg S., Posth C. et al., 2018. The genomic history of southeastern Europe // Nature. Vol. 555 (7695). P. 197–203.
- Meyer M., Arsuaga J. L., de Filippo C. et al., 2016. Nuclear DNA sequences from the Middle Pleistocene Sima de los Huesos hominins // Nature. Vol. 531. Р. 504–507.
- Olalde I., Allentoft M., Sánchez-Quinto F. et al., 2014. Derived immune and ancestral pigmentation alleles in a 7,000-year-old Mesolithic European // Nature. Vol. 507. P. 225–228.
- Olalde I., Posth C., 2020. Latest trends in archaeogenetic research of west Eurasians // Current Opinion in Genetics & Development. Vol. 62. P. 36–43.
- Rosimo F., Woodbridge J., Fyte R., Sikora M., Sjögren K., Kristiansen K., Liden M., 2020. The spatiotemporal spread of human migrations during the European Holocen // PNAS. Vol. 117. No. 16. P. 8989–9000.
- Wright L., Yoder C., 2013. Recent Progress in Bioarchaeology: Approaches to the Osteological Paradox. 2013 // JAR. Vol. 11. No. 1. P. 43–70.