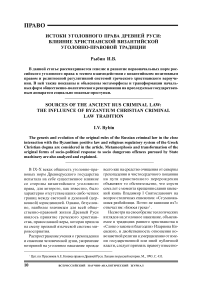Истоки уголовного права Древней Руси: влияние христианской византийской уголовно-правовой традиции
Автор: Рыбин И.В.
Журнал: Вестник экономики, управления и права @vestnik-urep
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 3 (16), 2011 года.
Бесплатный доступ
В данной статье рассматривается генезис и развитие первоначальных норм российского уголовного права в тесном взаимодействии с византийским позитивным правом и религиозной регулятивной системой греческого христианского вероучения. В ней также показаны и объяснены метаморфозы и трансформации начальных форм общественно-политического реагирования на преследуемые государственным аппаратом социально опасные проступки
Короткий адрес: https://sciup.org/14214442
IDR: 14214442
Текст научной статьи Истоки уголовного права Древней Руси: влияние христианской византийской уголовно-правовой традиции
В данной статье рассматривается генезис и развитие первоначальных норм российского уголовного права в тесном взаимодействии с византийским позитивным правом и религиозной регулятивной системой греческого христианского вероучения. В ней также показаны и объяснены метаморфозы и трансформации начальных форм общественно-политического реагирования на преследуемые государственным аппаратом социально опасные проступки.
SOURCES OF THE ANCIENT RUS CRIMINAL LAW:THE INFLUENCE OF BYZANTIUM CHRISTIAN CRIMINAL LAW TRADITION
I.V. Rybin
The genesis and evolution of the original rules of the Russian criminal law in the close interaction with the Byzantium positive law and religious regulatory system of the Greek Christian dogma are considered in the article. Metamorphosis and transformation of the original forms of socio-political response to socio dangerous offences pursued by State machinery are also analyzed and explained.
В IX-X веках общность уголовно-правовых норм Древнерусского государства испытала на себе существенное влияние со стороны византийского уголовного права, для которого, как известно, было характерно отсутствие каких-либо четких границ между светской и духовной (церковной) юрисдикцией. Однако, безусловно, наиболее значимым для всей общественно-правовой жизни Древней Руси явилось принятие греческого христианства, православной веры, которая пришла на смену прежней языческой системе мировосприятия.
Распространение учения о грехопадении и спасении человеческой души, укоренение воззрений на уголовное наказание прежде всего как на средство очищения от скверны грехопадения и чистосердечного покаяния на пути нравственного перерождения объясняют то обстоятельство, что спустя семь лет с момента крещения славян киевский князь Владимир I Святославович на вопрос столичных епископов: «Се умножа-шися разбойници. Почто не казниши их?» отвечал им: «Боюся греха»1 .
Несмотря на своеобразие теологических взглядов на уголовное наказание, объясняемое в традициях раннего христианства в «Слове о законе и благодати» Илариона Киевского, и двойственность отношения новозаветной религии к умерщвлению от имени государственной или иной публичной власти, следует признать правоту известно- го отечественного правоведа Н.С. Таганцева и других ученых, заключавших, что именно вера, пришедшая на Русь из Византии, явилась основой для закрепления в уголовно-правовой доктрине института смертной казни.
Под воздействием канонов и заповедей монотеистической религии, претерпевшей значительные изменения со времен провозглашавшего всеобщее равенство раннего христианского учения и приобретшей уже некий элитарно-имперский характер, в воззрениях власть имущих на преступление и наказание на первый план выходит опасность для государственного строя и общественного порядка, устанавливаемого и охраняемого политическим режимом. Последний, по изменившемуся мнению восточнославянских князей, был установлен по воле и от имени венчающего на княжение и помогающего им нового, христианского, бога, заменившего собой грозного общинного бога Перуна – их прежнего покровителя.
Влияние византийской уголовно-правовой традиции на систему наказаний Русской земли выразилось в значительном ускорении процессов ограничения частной (кровной) мести и замены ее публичным наказанием в виде смертной казни. Причем это отнюдь не способствовало замещению частного преследования штрафами – композициями, а отчасти даже затрудняло его, так как «по византийским законам не существовало замены казни имущественным выку-пом»2 . Этот интересный момент прослеживается на примере первого проникновения византийской уголовно-правовой доктрины на Русь – русско-византийских соглашений X столетия.
Санкции статей, в которых была определена мера наказания за убийство, как в договоре князя Олега от 911 г., так и в догово- ре князя Игоря от 945 г., будучи результатом своеобразного компромисса, носят альтернативный характер, позволяя предать преступника казни по законодательству Византийской империи либо преследовать убийцу по славянскому обычаю родовой мести, известному так называемому Закону Русскому, ссылки на который содержатся в обоих договорах.
Обращение восточных славян к системе штрафных платежей получило распространение еще при князе Игоре: именно им был закреплен размер штрафных санкций – вир, взыскиваемых с преступника в княжескую казну. В то же время в результате правовой реформы Владимира I, при проведении которой за основу был взят византийский законодательный свод 726 г. – Эклога (помимо этого византийского источника в русских кодификациях (Кормчих книгах, Судебниках) заметно сильное влияние других византийских сборников: Прохирона 879 г., Номоканона 883 г. и иных нормативных сборников, вобравших в себя извлечения из Пятикнижия Моисея) были отменены вирные платежи и введены членовредительские наказания.
Современным болгарским исследователем Л.В. Миловым перевод Эклоги на древнерусский язык, позднее включенный в правовой сборник «Мерило Праведное», датируется концом X века и связывается как раз с данным комплексом мероприятий Владимира Святославовича в области уголовноправовой политики, который ученый из Болгарии небезосновательно характеризует как обусловленный «целостным восприятием системы церковно-светского права Византии, ее особым вниманием к охране лиц из числа священнослужителей»3 .
На наш взгляд, помимо рецепции византийских норм уголовного права, имеющих под собой религиозную основу и
ИСТОКИ УГОЛОВНОГО ПРАВА ДРЕВНЕЙ РУСИ:
ВЛИЯНИЕ ХРИСТИАНСКОЙ ВИЗАНТИЙСКОЙ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ТРАДИЦИИ
Рыбин И.В.
предусматривающих наказания в виде казни мечом и изгнания, существовал еще один немаловажный фактор, затруднявший распространение композиций, репарационных мер уголовной ответственности, который был связан с укоренившимися в сознании русских людей того времени представлениями о справедливости. Речь идет о моральном принципе той далекой эпохи, выраженной в тезисе: «Разве можно носить своего убитого сына в кошельке?» Учет этого обстоятельства обусловил помещение в первые строки наиболее известного памятника древнерусского права – Русской Правды 1016 г. нормы о кровомщении: «Убьет муж мужа, то мьстить брату за брата, или сынови отца, любо отцю сына, или братучаду, любо сестрину сынови…»4 . Древнерусский законодатель, внимательный к традициям и предпочтениям народа и общественному мнению, был вынужден пойти по пути не резкого, а постепенного ограничения частной мести и устранения ее из уголовно-правовой практики.
Краткая Правда, одним из источников которой был Закон Русский, явившийся, согласно мнению отечественных исследователей, результатом унификации племенных Правд восточных славян (А.А. Зимин) либо собирательным названием древнерусского обычного права (В.В. Мавродин), демонстрирует нам динамику развития ограничивающих кровомщение правовых норм, которая завершилась его окончательной отменой после смерти Ярослава Мудрого тремя его сыновьями, собравшимися, как повествуется об этом в тексте Пространной Правды, вместе со своими боярами и «от-ложиша убиение за голову, но кунами ся выкупати»5 .
Так система денежных пеней, представленных вирами (в том числе так называемыми дикой (или повальной) и по- клепной) и продажами, составлявшими основную статью дохода княжеской казны, головничеством и уроками, что обращались в пользу стороны, непосредственно потерпевшей от преступления, в основу которой был положен принцип дифференциации размера выкупного платежа в зависимости от сословной принадлежности пострадавшего, пришла на смену стародавним восточнославянским уголовноправовым обычаям.
Поэтому составители Судебника Ивана III 1497 г. и Судебника Ивана IV Грозного 1550 г. предпочли обычно-правовым нормам и правовым традициям императивы великокняжеских уставных грамот, что отвечало избранному генеральному курсу, общей направленности внутренней политики государства, унаследовавшего от византийской монархии имперские черты и абсолютистско-деспотические методы правления и зачастую ставившего в своей пенитенциарной и карательной деятельности государственный интерес выше общественного.
Помимо закрепленных в статьях этих кодификаций уголовных санкций в виде смертной казни, они также содержали в себе нормы, допускающие и предписывающие применение жестоких пыток и калечащих наказаний. Однако грубое нарушение принципа соразмерности наказания и излишняя, чрезмерная жестокость государственной репрессии вызывали лишь жалость и сочувствие со стороны народных масс к осужденным – изувеченным, четвертованным, каторжанам и узникам мрачных острогов, приводили к формированию вокруг них некоего ореола мученичества, так как чрезмерная жестокость порицалась и не принималась основанными на идеалах христианской морали - соборности, сопричастности и милосердия -воззрениями российских людей на правосудие и справедливость.
Список литературы Истоки уголовного права Древней Руси: влияние христианской византийской уголовно-правовой традиции
- Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Киев, 1915.
- Милов Л.В. Легенда или реальность (о неизвестной реформе Владимира и Правде Ярослава)//Древнее право. 1996. №1.
- Пресняков А.Е. Княжее право в Древней Руси. Лекции по русской истории. М., 1993.
- Хрестоматия по истории государства и права России. Учебное пособие/Под ред. Ю.П. Титова. М., 2000.