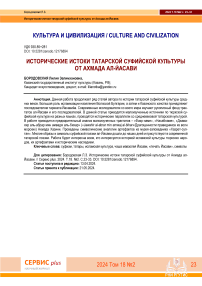Исторические истоки татарской суфийской культуры от Ахмада ал-Йасави
Автор: Бородовская Л.З.
Журнал: Сервис plus @servis-plus
Рубрика: Культура и цивилизация
Статья в выпуске: 2 т.18, 2024 года.
Бесплатный доступ
Данная работа продолжает ряд статей автора по истории татарской суфийской культуры средних веков. Большая роль исламизации населения Волжской Булгарии, а затем и Казанского ханства принадлежит последователям тариката Йасавийа. Современные исследователи со всего мира изучают рукописный фонд трактатов ал-Йасави и его последователей. В данной статье приводятся малоизученные источники по тюркской суфийской культуре на разных языках, проводятся исторические параллели со средневековой татарской культурой. В работе приводится предварительный анализ малоизученных трактатов - «Факр-наме», «Насабнаме», «Джавахир аль-абрар мин амвадж аль-бихар» («Jawahir al-abrar min amwaj al-bihar»/Драгоценности праведников из волн морских) Ахмада Хазини. Проведены символические аналогии артефактов из музея-заповедника «Хазрет-султан». Многие образы и символы суфийской поэзии ал-Йасави дошли до наших дней и присутствуют в современной татарской поэзии. Работа будет интересна всем, кто интересуется историей исламской культуры тюркских народов, их артефактами и историческим наследием.
Суфизм, татары, исламская культура, чаша мавзолея йасави, «печать йасави», символы
Короткий адрес: https://sciup.org/140305382
IDR: 140305382 | УДК: 930.85+281 | DOI: 10.5281/zenodo.12176894
Текст научной статьи Исторические истоки татарской суфийской культуры от Ахмада ал-Йасави
Формирование татарской исламско-суфийской культуры происходило на протяжении нескольких сотен лет, начиная с эпохи Волжской Булгарии (с IX-X века), когда странствующие исламские проповедники, дервиши, приносили в самые северные регионы тюркского мира информацию о новой религии ислам. За период с IX века по XIX век. самые разные суфийские направления были распространены на территориях проживания тюркских народов – это Йасавийа, Султанийе, Кубра-вийа, Накшбандийа, Бекташийа и др. Исследовали показывают большое влияние суфийского тари-ката1 Йасавийа на многие последующие группы последователей суфийской культуры – Бекташийа, Накшбандийа, Бабайи, Мауланы, Халватийа, Хай-дарийа, Каландарийа [21, с.33-34; 12, с.27]. Тари-кат Йасавийа – это первая крупная тюркская суфийская группа, основанная в Туркестане Ахмадом ал-Йасави2 (1103–1166) в начале XII века, получившая широкое распространение в Средней Азии, Иране, Афганистане, Азербайджане, турецкой Анатолии и Румелии [12, с.27; 17, c.175], а также среди татарского народа.
Для реализации цели нашего исследования мы хотим показать влияние суфийского учения А. ал-Йасави на формирование татарской исламско-суфийской культуры средних веков. Многочисленные его ученики и последователи распространили знания в том числе по региону Волжской Булгарии [17, c.175]. В татарскую культуру вошли многие элементы суфийской практики Йасавийа – учебные пособия для мектебов и медресе в виде трактатов и сборников суфийской поэзии последователей учения А. Ал-Йасави; различные символы эзотерической ритуальной деятельности; обрядовые музыкальные жанры. Многие поколения татарских поэтов сочиняли в подражание суфийской поэзии А. Ал-Йасави, посвящали ему свои сочинения. По тюркской традиции самого А. ал-Йасави в народе называли Кул Ахмад («кул» в значении Раб Аллаха), так и живших позже знаменитых татарских суфийских поэтов именовали Кул Гали (1183-1236), Кул Шариф (ум.1552), Мавля Колый (1630 – начало XVIIIв.).
Литературный обзор. Большое количество разнообразных исследований по истории тариката Йасавийа и о его основателе Ахмаде ал-Йасави заново публикуется по итогам ежегодных форумов в разных странах (Турция, Казахстан, Азербайджан). Мы отобрали из материалов этих конференций несколько актуальных работ для анализа источников [2; 11-14; 18]. Открываемые заново рукописи и списки средневековых трактатов – все это свидетельства большой роли этого суфийского направления для формирования культуры тюркских народов. Источниковедческие обзоры и статьи могут быть собраны в отдельный солидный сборник на разных языках тюркских народов, а также на английском и русском языках [3; 21]. Основной научный вывод многих работ подтверждает мысль о том, что А. ал-Йасави стал основателем «тюркского суфизма» [17; 12, с.27] как отдельной ветви мирового суфизма. «В других канонах суфизм присущ только избранным, а у тюрков суфизм стал общим направлением исламской веры всего народа» [4, с.85]. Этому способствовал тот факт, что ал-Йасави создал суфийское учение на основе классического ислама, используя собственные культурные традиции тюркских народов» [12, с.25].
Методы исследования
Мы использовали обширный свод источников по теме, собственные исследования по традиции суфизма в татарской культуре, музыке, поэзии. Особенностью данного исследования является привлечение новых источников на разных языках тюркских народов, которые раскрывают малоизвестные рукописи трактатов самого ал-Йасави и его ближайших учеников и суфиев следующих веков. В работе мы стремимся показать новые примеры влияния суфийской культуры тариката ал-Йасавийа на средневековую и современную культуру татар.
Результаты исследования
Становление мировоззрения А. ал-Йасави проходило в селении Ясы (сегодня – город Туркестан) и в Бухаре, где некоторое время жил его учитель Юсуф Хамадани (1049-1140 гг.), один из видных исламских мистиков Средней Азии [4, с. 53].
-
2 Здесь и далее написание исламских терминов и имен будет производиться согласно академического издания «Ислам. Энциклопедический словарь» (Ислам: Энциклопедический словарь / Ответственный секретарь редколлегии С. М. Прозоров. – М.: Наука, 1991. – 315 с.
СЕРВИС plus 2024 Том 18 №2 25
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
Пройдя обучение в медресе Бухары по различным религиозным наукам [14, c.638], А. ал-Йасави вернулся из Бухары в Ясы в 1140 году и стал духовным наставником жителей степи – тюрков-огузов, карлуков и кыпчаков, получив титул главы цепи духовной преемственности тюркских шейхов [4, с. 55]. За многие столетия тюрки приняли учение А.ал-Йасави и наградили его почетными титулами – «ата» (отец), «Пир-и Туркестан» («Наставник (жителей) Туркестана») [4, с. 57]; «Хазрат-и Султан аль-арифин» («царь учёные или царь суфийских мистических арифов») [16, с. 70].
Исторические сведения о силсиле (цепи духовной преемственности суфийского знания) находятся на знаменитой круглой «печати Йасави», из которой следует, что 6 шейхов получили тайное учение (суфизм) от самого Пророка Мухаммеда по духовной линии или непосредственно по шаджаре (наследная передача) [1, с.132]. Вот такая силсила ал-Йасави переведена П.Н.Ахмеровым с арабского языка в 1896 году по тексту копии «печати Йасави»: «1) Ходжа Абу-Юсуф Хамадани, 2) Шейх Абу-Алий Фармади, 3) Шейх Абу’ль-Касим Хар-кани, 4) Шейх Абу’ль-Хасан Харакани, 5) Абу-Язид Бистами, 5) Имам Джафар Садык, 7) Касим ИбнМухаммед Ибн Абу-бекр, 8) Сальман Фариси и 9) повелитель правоверных (т. е. халиф) Абу-бекр Сыддык» [1, с.132].
В 10 секторах-радиусах «печати» вписаны имена 10 Ахмедов, а в центре – «Хазрат Султан Ходжа Ахмад Йасави 1212», поэтому в народе этот предмет час то выступает в роли амулета с названием «11 Ахмадов». В одном из секторов приводится силсила, берущая начало от Ал-Газали, который также имел свою группу последователей. В «печати Йасави» он назван почетным эпитетом «Довод Ислама» – Худжату’ль-ислам Мухаммед Газзали [1, с.133].
Таинственная «печать Ахмада Йасави» как ценный артефакт по скрытой символике привлекает внимание ученых уже более 100 лет. Она имеет всего 3 круга – диаметр внутреннего малого – 3 см, среднего – 9 см, внешнего – 11 см [1]. М.А. Сулейманов в 2009 году сделал уточнение в своей статье, что это изображение сделано с копии «печати», и представил изображение с оригинала этого артефакта [8]. Нас интересует числовая и графическая символика «печати Ахмада Йасави» – здесь числа 3, 9, 10, 11 передают основные значения суфийской скрытой науки в их геометрических ассоциациях.
Интерпретации могут быть многочисленными, что зависит от многих факторов – от того, кто описывает, от его познаний в традиционных символах, от горизонта его знаний. Мы предложим одну из возможных версий трактовки этих чисел: 3 – геометрически отражает треугольник «символа сердца» (основное внимание суфия всегда направлено на работу сердца), 9 – «круг» как геометрическая основа витков космической спирали, 10 – «круг и точка в центре» в значении целостности бытия на одном витке спирали, 11 – символ «совершенного человека». По поводу суфийской символики есть много разных работ, как современных, так и средневековых, например, трактаты Ибн аль-Араби (Ибн аль-Араби. Избранное. Т. 1. – М.: Языки славянской культуры: ООО «Садра», 2013. – 215 с. ). Целью данного исследования не является подробный анализ суфийских символов, но они выступают свидетельствами наличия суфийской эзотерики в данном тарикате.
Описывая тексты татарских «багышлау» (особо популярный у татар словесный религиозный жанр), известный ученый Г.Сайфуллина отмечает, что 11 Ахмадов и имя Ал-Йасави часто встречаются в конце XX века, показывая сохранность уважения к этому мудрецу в народной памяти [6, c.20].
Основные идеи суфийской мысли А. ал-Йа-сави можно выявить в нескольких его прозаических и поэтических трудах, по которым до сегодняшнего дня нет единого мнения о степени авторского вклада (возможно некоторые строки писали ученики и поздние последователи):
-
- Dîvân-ı Hikmet (Собрание мудрости),
-
- Fakrnâme (Поэма о бедности),
-
- Risâle der-Âdâb-ı Tarîkat (Трактат о пра
вилах тариката)
-
- Risâle der Makâmât-ı Erba’în (Трактат о
сорока макамах) [12, с.27].
Анализируя тексты вышеназванных сочинений, можно прийти к выводу, что А. ал-Йасави и его
ученики знали почти все духовное наследие суфиев, живших до него, упоминаются имена – Абу Йазид Бистами, Джунайд Багдади, Зу-н-нун Мисри, Мансур ал-Халладж [4, с. 71]. Основной особенностью суфийского учения А. ал-Йасави является опора на классический ислам, поэтому цитируя мысли предшественников, он сначала соизмеряет их верность с Кораном и хадисами Пророка [4, с.75]. Благодаря произведениям А. ал-Йасави и его последователей появилась исламская наука на тюркских наречиях, поддерживая развитие тюркской традиционной культуры в целом. В Хикмете №147 А. ал-Йасави мы находим такие строки:
«He будут поддерживать ученые сказанное вами на тюрки.
Услышь у тех, кто знает, красоту духовного достояния.
Аят, Хадис если будут на тюрки, это хорошо» [10, c.188]
Сегодня трактаты учеников и последователей ал-Йасави являются историческими источниками по разным аспектам культуры и правилам его тариката, научным и духовным установкам той эпохи. Исследователь Н.Хасан приводит следующие труды: «Мират ал-кулуб» Мухаммада Данишманда Зарнуки («Mir’at al-qulub»/ Мир в сердцах); «Насабнаме» на тюркском Мавланы Урунг Койлаки («Nasabname»/Родо-словная); «Рисала дар таржима-и Ахмад Яс-сави» («Risala dar tarjima-i Ahmad Yassawi») Ху-самиддина Сигнаки; «Хадикат аль-арифин» («Hadiqat al-arifin») Ходжи Исхака; «Джавахир аль-абрар мин амвадж аль-бихар» («Jawahir al-abrar min amwaj al-bihar»/Драгоценности праведников из волн морских) Ахмада Хазини (далее кратко в этой статье – «Джавахир аль-абрар»), «Ламахат мин нафахат аль-кудс» («Lamahat min nafahat al-quds») Алима Шейха Азизана, «Худжат аз-Закирин» («Hujjat az-zakirin») Мухаммада Шарифа Бухари и «Самарат аль-машаих» («Samarat almashaikh») шейха Али Зинды.
Так, например, «Насабнама» (родословная Ахмада ал-Йасави), написана братом шейха – Ма-уляной Сафий ад-дином Койлаки и переведена с арабского на тюркский язык в 1146 году, при жизни ал-Йасави. В этом произведении написано, что Ах- мад ал-Йасави родился в Сайраме, затем переехал в Ясы. У него было десять тысяч последователей, и он прожил сто двадцать лет. Также в этой работе представлены взгляды Ахмада ал-Йасави на проблемы суфизма. Изложение многих сверхъестественных событий и чудес в «Насабнаме» свидетельствует о том, что это произведение носит агиографический характер [16, с.71].
В сочинении «Рисала дар таржима-и Ахмад Йасави» имама Хусамиддина Сигнаки (умер в 1311 г.) содержится информация о студенческой жизни Ахмада ал-Йасави под руководством Юсуфа Ха-мадани; дружба ал-Йасави с Абдулхаликом Гижду-вани. Есть сведения об учениках – Баба Мачин Мухаммад Хотани, Хаким Ата, Мухаммад Даниш-манде, Ходже Дуги [16, с.72].
Большинство ученых ссылаются на трактат Ахмада Хазини (XVI век) «Джавахир аль-абрар», единственная рукопись которого хранится в библиотеке Стамбульского университета. Эта книга является уникальным источником, содержащим богатый материал о нормах, догматах, уставе, принципах и истории суфийского тариката Йасавийа [16, с.76]. Ахмад Хазини в своей работе «Джавахир аль-абрар» приводит сорок афоризмов учителя по следующим вопросам суфийской этики: характер человека; хороший внешний вид и внутренняя чистота; воздержание; аскетизм; борьба с желаниями материального; поминание Бога; уединение; божественная любовь; постижение Бога; отношения между шейхом (учителем) и последователем (муридом); приказы тариката (сулюк); вознесение (мирадж) священных лиц (суфиев); чудо и смотр; суфий, кружащийся в экстазе (ракс и сема); ищущие убежища только от Бога (факр-у фано) и т.д. Также Хазини рассказал правила суфийской группы Йасавийа, например, о сиянии души, рассказанное самим ал-Йасави: «если человек имеет хороший внешний вид и внутреннюю чистоту, он достигает совершенства, и дворец его наполняется светом Бога» [16, с.76]. Хазини приводит в «Джавахир аль-абрар» пример стихов ал-Йасави: «Я ищу своего Создателя круглые сутки во Вселенной, с четырёх сторон я устремлён в космос» [16, с.7].
Другая рукопись Ахмада Хазини «Худжат аль-Абрар» хранится в парижской библиотеке и
СЕРВИС plus 2024 Том 18 №2 27
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
имеет ценную информацию о том, что два суфийских тариката (Йасавийа и Накшбандийа) произошли от общего источника и очень похожи друг на друга по идеологическим основам [16, с.79]. Это важно для историков обеих групп, которые часто спорят о происхождении и разности ритуалов Йаса-вийа и Накшбандийа. А.Хазини подробно пишет о теоретических проблемах суфизма, о роли шейха в группе; о ритуале зикра (поминание Бога) и его важности для духовности человека; о двух видах зикра (громкого и тихого), об особенности «зикра арра» (его звук напоминает визг пилы) [16, с.79].
Тарикат Накшбандийа был очень популярен у татар, особенно после XVI века, поэтому важно проследить исторические истоки его формирования. Многие историки отмечают, что некоторое время обучение Б.Накшбанда (1318-1389гг.) проходило у последователей Йасавийа – Касым Шейха и Халил Ата [17, с.108-109]. Накшбанд получил духовное обучение от Ходжи Абдул-Халика Гиждувани, что также сближает обе группы последователей этих суфийских шейхов общими наставниками [17, с.110].
Прямых исторических источников о деятельности последователей Йасавийа на территориях проживания волжских татар очень мало. В основном эти свидетельства принятия духовной линии Йасавийа-Накшбандийа, широкое использование в образовательном процессе трактатов учеников ал-Йасави – «Бакырган китабы», «Бедавам» и поэм татарских поэтов.
Широко распространенный среди татар до начала XX века трактат по основам исламской веры «Шараитуль-иман» дает информацию по цепочке преемственности татарской традиции суфи-зама от Ходжи А. Ал-Йасави (современное издание: Шараитуль–иман (Иман шартлары). Казань, 1990) [17, c.45; 19]. Трактаты по истории суфизма среди татар – «Таварих-и Булгарийа» Хусам аддин б. Шараф ад-дин ал-Булгари; «Тарих наме-и Булгар» Т. Ялчигула (Галяутдинов И. Г. «Тарих нама-и булгар» Таджетдина Ялсыгулова. Уфа, 1990); «Мустафад аль-ахбар» Марджани (Мар-джани, Ш. Мустафад аль-ахбар фи ахвали Казань ва Булгар: Источники по истории Казани и Булгара.
Казань, 1989), «Асар» Р. Фахреддина, «Тельфи-куль-Акбар» Мурата Рамзи (Т ә лфик ә л- ә хб ә р в ә т ә лких ә л-асар фи в ә каиг, Казан в ә Болгар в ә м ө л ү к ә т-татар / «Собрание сведений из прошлых событий Казани, Булгара и татарских царей», Оренбург, 1908) и др. [19].
-
Н. Жабборов приводит недавно обнаруженное сочинение ал-Йасави – «Кысса-и Нугман ибн Сабит» («Поэма о Нугмане ибн Сабите»), которое некоторые исследователи, основываясь на казанском издании, считали стихами Хакима Сулаймана Бакыргани. В последнем двустишии поэмы приведено имя ее автора – «Кул Ходжа Ахмад», однако, в отсутствие рукописи этот факт нельзя подтвердить никак [2, с.201-202]. Тем не менее – этот новый источник требует отдельного изучения.
Одно из практически неизученных в отечественной науке сочинений А. ал-Йасави – это «Факр-наме» (варианты перевода – «Книга бедности», «Книга смирения»), которое является прозаическим предисловием к «Диван-и Хикмет» [15, с.4]. Дословный перевод названия не дает полноты смысла, так как точнее будет написать – «Книга дервишизма [15, с.6] или «Книга нуждающегося в Аллахе». Исследователь К. Ераслан на основе проведенного им сравнительного анализа текста «Факр-наме» приходит к выводу, что книга не была написана самим А. Ал-Йасави, но полностью состоит из его идей с точки зрения содержания и возможно написана его учениками [15, с.7].
К. Ераслан в 2016 году выпустил турецкое издание этого сочинения с предисловием и научным анализом текста. Он отмечает, что он синтезировал текст на основе различных старинных изданий, в том числе казанской версии 1896-1901 г. и ташкентской 1897г. [15, с.9]. Этот факт свидетельствует о том, что труды А. Ал-Йасави были хорошо известны татарам, издавались, заучивались в учебных курсах еще до начала XX века.
В тексте «Факр-наме» описывается природа и важность «факра» (бедности) и суфизма, который имеет сорок рангов, десять в шариате, десять в тарикате, десять в гнозисе и десять в истине. «Факр-наме» было преподнесено дервишам Йаса-вийа как завещание шейха – основателя направле-
ния [15, c.14]. Основные 4 ступени суфийского духовного восхождения к истинам ислама изложены в «Факр-наме» А. Ал-Йасави: «Если (кто-то) является суфием и не знает этих слов, он не суфий. Это слово – Шариат, это слово – Тарикат, это слово – Магрифат, это слово – Истина» [15, с.50].
В «Факр-наме» воспеваются прекрасные имена Аллаха, архангела Гавриила, Адама, семи библейских пророков, Мухаммада и Али. Конкретные восхваления смирению выбраны из высказываний 16 различных суфийских шейхов. Из слов самого А. ал-Йасави цитируются 3 предложения и 40 стихов, сходных по поэтическому стилю и содержанию со стихами «Диван-и Хикмет»:
«В 14 лет я страдал, я смирил свою гордость, стирая ее в песке,
Я произносил зикр «ху», страдая от утомления.
Я отдал все, все, что у меня было дорого.
После этого я взлетел до небес, друзья мои» [20, с.127].
Огромное влияние суфийской ритуальной музыки и мистической поэзии на народное творчество тюркских народов не вызывает сомнений и описано во многих научных работах. В предыдущих работах нами проведен обширный сравнительный анализ текстов татарских мунаджатов и хикметов А.ал-Йасави на наличие общих образов, символов, суфийских терминов, выявивший большую общность этих двух жанров, которые использовались в обряде слушания сама`.
Одной из причин широкого распространения идей тариката Йасавийа среди простого тюркского населения средних веков стало использование музыки, танца и стихов в ритуальной практике, что было очень понятно и близко народу. А. Аббасова пишет: «Поскольку тарикат ал-Йасави открыл путь к выражению эмоций тех, кто взволнован на пути к Богу, с помощью стихов, музыки и даже религиозных танцев, он создал большую близость к исламской вере в душе народов, которые давно привыкли выражать свои чувства с помощью этих прекрасных искусств» [11, с.40].
Историк татарской средневековой литературы Х.Ю. Миннегулов пишет, что творчество ал-Йасави давно интересовало татарских ученых разных эпох (Р. Фахруддина, Г. Рахима и Г. Газиза, М.
Закиева и А. Каримуллина, М. Гайнутдинова, А. Си-бгатуллиной, Ф. Яхина) и в их работах имеются интересные наблюдения о большой роли этого суфийского шейха в многовековой духовной жизни татарского народа: его сочинения сначала рукописно, затем в печатной форме были широко распространены среди татар в качестве учебного материала для медресе, как основа фольклорных сочинений. Его хикметы исполнялись нараспев на религиозных собраниях, «некоторые из них или полностью, или частично в измененной форме вошли в состав татарского музыкального фольклора, особенно в жанр мунаджатов» [5, с.44].
Многие тюрко-татарские поэты, начиная с Кул Гали (XIII в.), Хисама Кятиба (XIV в.), Кул Шарифа (погиб в 1552 году при взятии Казани Иваном Грозным) есть идеи ал-Йасави, или прямые упоминания его и учеников. Например, в дастане Кул Шарифа «Кыйссаи Хуббихуджа» есть образ А. ал-Йа-сави и его ученика Хакима Аты (Сулеймана Бакыр-гани). Поэт XVII в. Мавля Кулый писал в жанре хикметов как последователь этих знаменитых суфийских наставников. Позже Шамсуддин Заки (XIX в.) и Б. Вайсов (1819–1893) передают схожие мысли о суфизме [5, с.47].
Зарубежные авторы находят много общего между народными стихами тюркских народов и поэзией А. Ал-Йасави на уровне ритмов стихосложения. Так С.Шерифова пишет, что «большинство стихотворений, написанных А. Йасави в соответствии с традицией народной поэзии, разделены на семь (4+3=7) и двенадцать (4+4+4=12) слогов; он отдал свою поэзию народу – слова, музыку, свой саз» [21, с.31].
Основные особенности суфийского обряда зикра в тарикате Йасавийа многократно описаны в научных работах. Мы выделяем для нашего исследования только те, которые повлияли на исламскую культуру татарского народа: 1) возможность женщинам участвовать в молитвенных ритуалах суфиев [18, c.1048], 2) применение музыкальных инструментов, 3) внимание к сердцу как к объекту воспитания духа человека, 4) осознание духовного одиночества, когда человек своим телом – с народом, а душой – с духом правды (эта же идея будет продолжена в тарикате Накшбандийа), 5) широкое использование речитируемой суфийской поэзии
СЕРВИС plus 2024 Том 18 №2 29
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
для распространения исламской мысли среди народа [4, с. 151–157].
Так, например, «Хикметы» ал-Йасави, «по легенде, уже при его жизни исполнялись на богослужениях. Духовная практика зачитывания стихотворений наряду с молитвами из Корана было давней традицией религиозной школы Хорасана, с которой А. ал-Йасави был хорошо знаком». Эта особенность тюркской мусульманской культуры отмечается и у татар, которые также допускали исполнение религиозных стихов в здании мечети [4, с.57].
В описаниях ритуалов тариката Йасавийа мы находим интересные строки о напеваемых стихах «мунаджат», которые позже стали для татарского народа одним из популярных жанров религиозных песнопений чаще всего суфийского содержания: «Во время рассвета молитва (münâcât) Всевышнему ясным голосом будет принята Богом» [17, c.101-102]. Среди других музыкальных суфийских жанров тариката Йасавийа можно выделить исполнение «хикметов» и гимнов «иллахи» во время обряда затворничества [17, c. 104].
Известный исследователь тюркской литературы М.Ф. Кёпрюлю приходит к выводу, что именно суфийская поэзия, суфийские напевы на тюркских наречиях стали решающим фактором для завоевания сердец степных кочевых народов, принявших ислам благодаря искусству дервишей [17, c.50].
Танцевальные или вернее написать – ритмические движения во время суфийских обрядов тариката Йасавийа названы двумя терминами – ракс и сама’. Здесь мы сразу уточним, что в мировой суфийской обрядности термином сама’ чаще всего называют обряд слушания, в который входит речитация отрывков из Корана, религиозных стихов, ритуальные молитвенные циклы с пением и движением разного рода (мистического и символического оттенка), игра на музыкальных инструментах. В исторических описаниях этих обрядов у последователей ал-Йасави – термины «ракс» (raks) и «сема» (semâ’) используются для описания суфийских танцев. Например: «сема» – танец, исполняемый с вращением, «усиливает любовь и экстаз людей и заставляет божественные благословения просачиваться в сердце», дает возможность уви- деть «свет Аллаха» [18, c.1055]. Этот танец ал-Йа-сави разделил на три вида: харам, дозволенное и халяль, и это зависит от человека, исполняющего этот танец [18, c.1055]. Вот отрывок из его «Хикмета»:
«Пью из чаши разговоров и танцев
Друзья, он вошел в кабинет дивана;
Тот, кто ничего не знает ни о голоде, ни о сытости, ни о приобретении, ни о потере,
Друзья пришли в восторг и танцевали, и танцевали в небе» [18, c.1055].
Ал-Йасави «утверждает, что это ложь, если люди, которые не отказываются от любви к миру и являются рабами души и дьявола, вступают в та-рикат и совершают «сема». Фактически, это напоминает нам, что эти люди исполняли сема и танец ракс для мира, а не для Аллаха» [18, с.1056].
Символические образы – одна из отличительных особенностей суфийского искусства: разнообразные геометрические, буквенные, цветочные, числовые аналогии встречаются в разных искусствах и декоративно-прикладных ремеслах тюркских народов. Что же восприняла татарская средневековая культура из символики тариката Йасавийа? В поэзии – это целый ряд общих слов-образов, имеющих многозначительную интерпретацию – это такие мотивы как любовь, вино, финики, рассвет, смерть, зикр и сама’.
Тюркские паломники особо почитают архитектурный памятник – мавзолей Ходжи Ахмада ал-Йасави, расположенный в городе Туркестан (Казахстан), построенный в 1396 году по приказу Тимура Тамерлана [4, c.63]. Сегодня это целый комплекс старинных культовых зданий на территории историко-культурного музея-заповедника «Хазрет-султан». Особенный интерес вызывает большой бронзовый котел, установленный внутри мавзолея. Его декорирование арабскими надписями и орнаментами имеет символическое значение для суфийского миропонимания [7, с.212]. Подобные же узоры (как в музее-заповеднике «Хазрет-сул-тан») встречаются в татарском старинном декоративно-прикладном искусстве (спиральные витки, мотивы лотоса, мотивы свастики, шести и восьмиугольные звезды). Сравнение их с украшениями на
бронзовом котле в Мавзолее Ходжи Ахмада ал-Йа-сави могут стать темой отдельного исследования.
Символический путь самосовершенствования суфия есть практически во всех тарикатах, в Йаса-вийа он проходит через ступени духовной работы над собой. Подробное описание их дано в «Факр-наме». Символика числа 40 – широко представленная в трактате «Факр-наме», в ритуальной практике тариката Йасавийа, также прочно вошла в народную культуру татар. Мы находим типичные фразы и образы с этим числом не только в старинных текстах, но и в современной татарской песенной поэзии: «кы-рык эшен» (40 дел) и «кырык якка» (40 сторон в смысле дорог-путей) встречаем у поэтов Дамира Гарифуллина и Зулфии Гыйзетдиновой, Рамиля Чура-гулова, Гарифжана Мухамматшина, Зинаиды Захаровой [9]. Например, такое четверостишие в песне «Туган-тумачалар» (Родственники-предки) подчеркивает образ 40 важных дел, которые можно оставить только с приездом дорогих родственников:
«Без килюгэ туганнарым
Кырык эшлэрен ташлар.
Табын туренэ куелыр
Тэмледэн-тэмле ашлар» [9] (Подстрочный перевод наш: К нашему приезду родственники Забросят свои 40 дел.
На центр стола поставят
Самые вкусные блюда).
Татары, особенно в период XVI-XIX веков, находились под сильным влиянием суфийской культуры в традициях Йасавийа-Накшбандийа – народная поэзия была пронизана образами возвышенной любви к Богу, ассоциациями с образами розы, соловья, женской красоты и др. Эти образы живы до сих пор, как в стихах к песне «Мин кабат-тан туыр булсам» («Если я смог бы заново родиться») поэта Мустая Карима:
Кузлэренэ (йозлэренэ) генэ тугел, Эзлэренэ табынамын.
Конгэ кырык тапкыр сунеп,
Кырык тапкыр кабынамын [9].
(Подстрочный перевод наш:
Не только твоим глазам (лицу), Твоим следам я поклоняюсь.
Сорок раз в день угасая,
Сорок раз в день снова загораюсь.)
В стихотворении поэта Рамиля Чурагулова «Алла бирсэ» (Бог даст) наиболее традиционные суфийские мотивы представлены в образе преодоления 40 трудных дел, как и в средние века для дервиша 40 ступеней совершенствования для перерождения в «совершенного человека» было испытанием терпения и силы духа:
Кырык эшлэр кырам диеп, Хаваланма син, бэндэм. Тауларны да кучерерсен Коч-гайрэт булса тэндэ.
«Алла бирсэ» дигэн сузне
Эйтэ бел адым саен [9].
(Подстрочный перевод наш:
Сорок дел одолею,
Не вздыхай, мой раб.
Горы даже сможешь сдвинуть
Если силы будут в теле.
«Бог даст» фразу произносить научись шаг за шагом.)
Сравним эти современные стихи с рефреном средневековой настольной книги татар «Бэда-вам» («Аллах дигель бэдээвэм» – «Аллах повторяй постоянно») и отрывком из «Хикмета» №46 А. Ал-Йасави XII века:
«Друзья, никогда не уставайте говорить: «Аллах».
Имя Аллаха – ключ к душе и сердцу, друзья» [10, с.62].
Мы видим, что сходные наставления простому народу о важности постоянной молитвы и поминания имени Бога внедрены в повседневную культуру татар уже многие века.
Выводы
Тарикат Йасавийа подготовил развитие суфийского искусства тюркских народов, в том числе татар. А. ал-Йасави представил ислам в рамках суфизма, а последователи тариката Йасавийа впервые на понятных наречиях для большого количества народов Евразии выразила свои волнения и эмоции на пути к Богу в стихах и музыке, исполняемой на сазе и в религиозных танцах. Таким образом, наследие А. ал-Йасави и его тариката очень многогранно по историческому влиянию на татарскую культуру: это большая роль по распространению ислама; создание базовой модели для развития исламской суфийской культуры тюркских народов. Суфийские
СЕРВИС plus 2024 Том 18 №2 31
НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^шшши^н
жанры в поэзии, танцевальном и музыкальном искусстве – все это появилось благодаря обрядам дервишей и получило эволюцию на почве национальных традиций татар, башкир, узбеков, казахов, киргизов и др. Трактаты и поэмы Йасавийа многие века были настольной книгой татарского народа.
Список литературы Исторические истоки татарской суфийской культуры от Ахмада ал-Йасави
- Ахмеров П.Н. Описание печати Ахмеда Ясави / П.Н.Ахмеров // Восточные записки: сб. ст. – Казань: Тип. Имп. ун-та, 1896. – С. 129-134.
- Жабборов Н. Значение «Поэмы о Нуъмане Ибн Сабите» Ходжа Ахмеда Ясави // Межрелигиозный диалог и наследие Кожа Ахмета Ясави. Материалы международной научной конференции, посвященной 550-летию Казахского ханства, 13 февраля 2015 г., г. Астана / Составители: Муминов А.К., Сабери А., Липина Т.А. Серия «Религиоведческие исследования в ЕНУ им. Л.Н. Гумилева – Астана, Мастер По ЖШС, 2015. – С.200-203.
- Исламов Р. Ф. Ахмед Ясеви: жизнь и творческая деятельность (к вопросу изучения) // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. – 2012. – № 3-2. – С. 56-60. – EDN PDFVNH.
- Кенжетаев Д.Т., Жандарбек З.З. Ходжа ахмет Яссауи. – Алматы: ТОО «Издательство Золотая книга», 2017. – 288с.
- Миннегулов Х. Ю. Творчество Ахмеда Ясави и его традиции в татарской литературе // II Международный форум «Богословское наследие мусульман России»: Сборник научных докладов конференций, Болгар, 25–30 октября 2020 года. – Казань: Издательский дом «МеДДоК», 2021. – С. 42-48. – EDN TZLLLA.
- Сайфуллина Г.Р. Багышлауга багышлау. Багышлау (посвящения) в контексте культуры народного ислама волжских татар. – Казань: Издательство «Иман», 2005. – 80с.
- Сулейманов М. А. Надпись на котле XIV века // Pax Islamica. – 2009. – №2(3). – С.212-223.
- Сулейманов М. А. Об оттиске печати Ходжи Ахмада Йасави / М. А. Сулейманов // Pax Islamica. – 2009. – № 1(2). – С. 267-271. – EDN SHNTTN.
- Тексты татарских песен. – URL: https://erlar.ru (дата обращения 02.04.2024)
- Яссави Ходжа Ахмед. Хикметы. – Алматы: Дайк-Пресс, 2004. – 208 с.
- Abbasova A. Xoca Əhməd Yəsəvinin «Divani-Hikmət» əsərində yaradiliş və ölüm // Hodja Akhmet Yassawi In-ternational Conferences on Scientific Research November 5-6, 2021 / Nakhchivan State University, Azerbaijan. – S.37– 45.
- Atasever M. Hikmet’te yetim olmak // Hoca Ahmet Yesevi 3. Uluslararasi bilimsel araştirmalar kongresi 17-19 nisan 2020, Adana. – S. 24-36.
- Çaliş A. Ahmet Yesevî öğretisinin oluşturduğu doğal iletişim stratejisinin ve yesevî dervişlerinin islam’in ya-yilmasindaki rollerinin halkla ilişkiler perspektifinden değerlendirilmesi // Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi. 26-27 Ağustos 2019. Adıyaman, Türkiye. – S.1064-1080.
- Demir H. Hoca Ahmed Yesevi’yi Hanefi Matüridi Kültür Havzasına Bağlayan Ard Alan ve Hakim es-Se-merkandic // I Uluslararası Hoca Ahmed Yesevi Sempozyumu Bildirileri. 28-30 nisan 2016, Ankara: Baskı Merkez Repro Basım Yayın Ltd. Şti, 2017. – S. 637- 647.
- Eraslan K. Yesevi’nin Fakr-nâmesi / yazar: Kemal Eraslan. – Ankara: Hoca Ahmet Yesevi Uluslararasi Türk-Kazak Üniversitesi, 2016. – 96 s.
- Hasan N. Notes about Some Manuscripts Devoted to the Sufi Order of Yassawiyya //Journal of History Culture and Art Research. – 2017. – Vol. 6. – №. 2. – S. 69–81.
- Köprülü M. F. Türk edebiyatında ilk mutasavvıflar. – Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi. – 1976. – 470 s.
- Küçükkaya A. Hoca Ahmed Yesevi’nin Divan-I Hikmet’inde kullandiği bazi tasavvufi semboller // Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi. 26-27 Ağustos 2019. Adıyaman, Türkiye. – S.1046–1058.
- Maraş İ. İdil-Ural Bölgesinde Ceditçilik Hareketinin Tasavvufa Bakışı // Türk Dünyasında Dini Yenileşme. – İstanbul: Ötüken Yay, 2002. – S.166–176. - URL: https://www.oocities.org/tasavvufiliteratur/imaras2.htm (дата обраще-ния 02.02.2024).
- Sala R. Ahmed Yasawi: Life, words and significance in the Kazakh culture// Journal of history. – 2018. – №89 (2). – pp. 115–138. – DOI: 10.26577/JH-2018-2-228
- Şerifova S. Əhməd Yəsəvİnİn bədİİ və fəlsəfİ-dİnİ İrsİ haqqinda // Hodja Akhmet Yassawi International Con-ferences on Scientific Research November 5-6, 2021 / Nakhchivan State University, Azerbaijan. – pp.29-36.