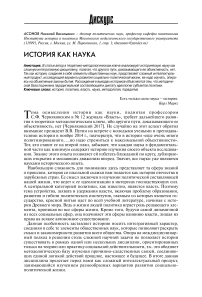История как наука
Автор: Асонов Николай Васильевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Дискурс
Статья в выпуске: 2, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье автор в теоретико-методологическом ключе анализирует историческую науку как сложную интегративную дисциплину, полагая, что другого пути, доказывающего ее объективность, нет. Так как история, соединяя в себе элементы общественных наук, представляет сложный интеллектуальный продукт, исследующий варианты развития социально-политической жизни, ее надо изучать, опираясь на объективные законы бытия. Расхождения в выводах историков объясняются тем, что методическая база подчинена парадигмальной составляющей и диктату идеологии субъектов политики.
История, политика, власть, наука, методология, парадигма
Короткий адрес: https://sciup.org/170168973
IDR: 170168973
Текст научной статьи История как наука
Есть только одна наука – история.
Карл Маркс
Т ема осмысления истории как науки, поднятая профессором С.Ф. Черняховским в № 12 журнала «Власть», требует дальнейшего развития в теоретико-методологическом ключе, ибо другого пути, доказывающего ее объективность, нет [Черняховский 2017]. Не случайно на этот аспект обратил внимание президент В.В. Путин на встрече с молодыми учеными и преподавателями истории в ноябре 2014 г., подчеркнув, что в истории «еще очень много политизированного, …но надо стремиться к максимальной объективности». Тот, кто ставит ее на второй план, забывает, что каждая наука в фундаментальной части как минимум содержит историю изучения своего объекта исследования. Знание этого опыта позволяет ей избегать блужданий по кругу, дублирующих открытия и мешающих движению вперед. Значит, все науки уже являются науками исторического опыта.
Наибольшую сложность для понимания здесь представляет та сфера знаний о прошлом, которая со школьной скамьи нам подается как история отечества и зарубежных стран. Ее смысл заключен в изучении политической составляющей нашей жизни, что ведет к ее идеологизации в интересах господствующих сил. А центральной категорией политики, как известно, является власть. Поэтому тема устройства, захвата и удержания власти, включая проблему образования, развития и гибели политических институтов, главным из которых является государство, красной нитью идет по всей учебной литературе, начиная с истории Древнего мира. Ведь в жизни людей политика играет роль решающего элемента, проникая во все сферы жизни. Кроме того, будучи самой динамичной из всех социальных сфер, она подчиняет эти сферы влиянию власти, лишая их права на всякое автономное существование.
Данная особенность заставляет историю носить интегративный характер, соединяя в себе те элементы общественных наук, которые позволяют раскрыть смысл и закономерности развития всего общества. Опора на междисциплинарный подход в решении столь сложной научной задачи не позволяет истории существовать в рамках одной или нескольких дисциплин, ориентированных только на теорию или практику социальной действительности, т.к. это обедняет методологическую базу изучения причинно-следственных связей, соединяющих единой логикой действий прошлое, настоящее и будущее. В итоге данная дисциплина предстает перед нами как сложный интеллектуальный продукт, занимающийся изучением разнообразных вариантов развития социальнополитической жизни.
Если мы желаем получить предельно достоверные выводы, следует изучать историю общества, опираясь на закон единства и борьбы противоположностей, раскрывающий двойственную природу бытия, а значит и всех сфер человеческой жизни. Анализируя их, надо исходить из того, что все они, включая участников исторического процесса, несут в себе как позитивные, так и негативные качества. Задача историка состоит в том, чтобы не только выявить причины возникновения данных качеств, но также определить и доказать с помощью сравнительно-ценностного метода соотношение «+» и «–», причины генезиса и возможные последствия их конфликта между собой, включая условия минимизации негативных результатов для государства и общества. Это же касается использования других объективных законов бытия, к которым относятся хорошо известные законы отрицания отрицания и перехода количественных изменений в качественные.
Применяя диалектический метод, предполагающий исследование и познание истории общества в ее постоянном изменении и развитии, нельзя забывать о других философских методах. В частности, надо помнить, что метод логического поиска достигает своего наибольшего результата там, где исследователю недостает источниковедческой базы. Дело тут не только в естественной утрате документов. Любая политическая власть всегда настроена на создание только своего положительного образа. По этой причине способ исторического анализа, рассматривающий в динамике зарождение, развитие и деградацию социально-политических систем, хорошо дополняет логический и диалектический методы. А метод сравнительно-исторического анализа, как и нормативный (нормативно-ценностный) метод, нацелен на выявление с точки зрения общей справедливости тех или иных событий и их возможных положительных и отрицательных последствий. Реализация такого метода позволяет, опираясь на знание исторического опыта, понять плюсы и минусы изучаемого нами объекта и смоделировать его перспективное состояние. В этом заключается прикладной аспект науки истории, выводящий ее в будущее через анализ прошлого.
К данному комплекту ключевых методов следует отнести и культурологический способ. Он хорошо сочетается с нормативным методом, позволяя изучать содержание исторических процессов с использованием ценностно-нормативных критериев. В результате история как процесс предстает в виде продукта осознанных мотиваций и форм политического поведения людей, где каждая противоборствующая сила имеет свою культуру, характерный для нее дискурс и только ей присущий ценностно-целевой набор, закрепленный нормой права. Их изучением занимаются дискурс-анализ и ценностно-целевой метод.
Поскольку в основе борьбы за власть лежит желание противоборствующих сил не только выжить, но и обустроить жизнь людей согласно своим представлениям, то неизбежно встает вопрос о применении витального подхода. Его удобно использовать в сочетании с цивилизационным методом. Такой прием позволяет не только дать более объективную оценку жизнеспособности цивилизаций как активных участников социальной жизни, но и раскрыть политическую и культурно-идеологическую сущность участников властных отношений как главных действующих лиц истории.
Между тем действие перечисленных методов носит вторичный характер по отношению к парадигмальной составляющей исторической науки. Именно от нее в значительной степени зависит печальное расхождение в выводах, которые делают ученые. Парадигму как научный термин ввел еще Платон. Обычно ее переводят с греческого как «пример, образец» чего-либо, на который надо равняться и который лежит в основе наших аналитических изысканий. Сегодня понимание парадигмы, положенное в основу научной методологии историче- ского анализа, несколько отличается от того, как ее толковали раньше. Для обществоведа парадигмы представляют собой основополагающие теоретические положения (или модели, ставящие те или иные проблемы), принятые как образцы для решения научно-теоретических и практических задач, направленных на изучение социально-политической сферы общества и перспектив ее эволюции.
Основные направления парадигм как «дисциплинарных матриц» строятся в зависимости от того, каким ценностно-мировоззренческим установкам следуют сами историки. Например, теологическая парадигма исходит из того, что человек как творение Бога несовершенен в своем уме и нравственности, оставаясь всего лишь подобием своего Создателя. Поэтому рассчитывать на то, что люди когда-нибудь построят совершенные социально-политические отношения и создадут свой «рай на земле», не приходится. Негативное поле, накапливающееся вокруг них из века в век, приведет к деградации и последующему разрушению всего, что ими создано, а теориям построения коммунистического или гражданского общества отводится роль социальных утопий.
Одна из групп таких аналитиков, встав на позиции «предрешенчества», считает, что подобный ход событий предрешен свыше и его нельзя изменить. Другая, исповедуя идею «непредрешенчества», полагает, что «сознание материально и отделимо от человека» и мы существуем в режиме, автономном от высших сил. Следовательно, конец света носит условный характер.
Натуралистическая парадигма отвергает наличие высшего разума, способного оказать воздействие на генезис, развитие и возможную гибель человечества. Опираясь на нее, историк свои исследования основывает на понимании того, что мы всегда были и остаемся частью природы. Биологический и географический факторы играют для нас решающую роль, следовательно, необходимо в первую очередь учитывать именно их. Сторонники данной парадигмы указывают на то, что «развитые формы жизни ищут консенсус во всем главном и находят его. Это полезно знать и социологам, и политологам». Развитие мозга ведет к созданию все более совершенных форм социальной жизни. Ведь наш мозг представляет собой самую совершенную биологическую систему. Наряду с этим, у людей, как и у животных, географическое видообразование – не единственный, но наиболее распространенный способ появления новых успешных видов. Для него характерно видообразование на периферии ареала обитания. В центральной зоне сохраняется наибольшее сходство с предковой формой. Она носит косный характер и не способна к саморазвитию. При этом популяции, обитающие на разных краях ареала, начинают сильно отличаться друг от друга, создавая успешные конкурирующие формы жизни. Такие же законы действуют в истории народов и социально-политических систем.
Ученые, опирающиеся на конфликтологическую парадигму, не отрицают того, что человеческий мозг рано или поздно придет к созданию более совершенной формы социально-политических отношений. Но движение в этом направлении в истории всегда осуществляться только через постоянный конфликт. Он должен охватывать все сферы общества. Поэтому античный постулат о том, что в споре рождается истина, является своего рода рабочим лозунгом этой парадигмы, впитавшей многое из социал-дарвинизма.
Ее в этом смысле поддерживает социальная парадигма, утверждающая, что история общества, а значит и политики, идет по своим законам и биологический детерминизм, присущий натуралистической парадигме, играет вспомогательную роль. Ведь человек перестал быть просто биологическим видом, животные инстинкты отошли у него на второй план, свидетельством чего является наличие у нас абстрактного зрения и абстрактного мышления, благодаря которым создана сложная система социальных отношений, вписанная в рамки духовной культуры. Она повлияла на поляризацию ценностно-целевых устремлений людей по принципу добра и зла, ведя их к нравственному совершенствованию.
Свою, и весьма сложную, специфику имеет политическая парадигма. Выступая в качестве теории политики, на основе которой в истории человечества решались все социальные задачи, она способна работать в союзе с любой из перечисленных парадигм, дополняя и развивая ее положения. Это объясняется тем, что с проблемой власти и подчинения как центральной категорией общественной жизни мы всегда сталкивались вне зависимости от того, какая именно парадигма лежала в основе наших научных изысканий. Следовательно, изучая историю, мы будем исходить из той «дисциплинарной матрицы», которая ближе всего нашим представлениям о человеке и мире. В то же время политическая парадигма способна помочь эффективно решать задачи, связанные с научной логикой. Она способствует раскрытию сути исторических явлений и процессов, помогая разработать и научно обосновать вектор развития человечества. Применение политической парадигмы связывается с тремя группами проблем. Во-первых, это установление широкого круга исторических фактов, необходимых для решения поставленных задач; во-вторых, сопоставление полученных фактов с теоретическими наработками; в-третьих, разработка новых теорий и их доработка на основе полученных данных.
К сожалению, все изложенное выше не позволяет исторической науке дать 100-процентную точность в своих выводах. Недостаток информационного ресурса и сложность самого исторического поля, включающего в себя все сферы общественной жизни, не поддающиеся всестороннему и детальному осмыслению, может возмещаться только за счет эрудиции историка как эксперта широкого уровня и его научного чутья – интуиции профессионала, свободной от всех идеологических штампов, навязанных политиками.