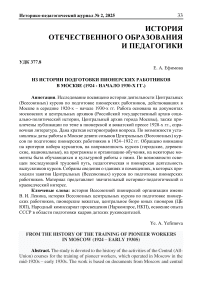Из истории подготовки пионерских работников в Москве (1924 — начало 1930-х гг.)
Автор: Е.А. Ефимова
Журнал: Историко-педагогический журнал @history-education
Рубрика: История отечественного образования и педагогики
Статья в выпуске: 2, 2025 года.
Бесплатный доступ
Исследование посвящено истории деятельности Центральных (Всесоюзных) курсов по подготовке пионерских работников, действовавших в Москве в середине 1920-х – начале 1930-х гг. Работа основана на документах московских и центральных архивов (Российский государственный архив социально-политической истории, Центральный архив города Москвы), также привлечены публикации по теме в пионерской и вожатской прессе 1920-х гг., справочная литература. Дана краткая историография вопроса. По возможности установлены даты работы в Москве девяти созывов Центральных (Всесоюзных) курсов по подготовке пионерских работников в 1924–1932 гг. Обращено внимание на критерии набора курсантов, на направленность курсов (городские, деревенские, национальные), на программы и организацию обучения, на некоторые моменты быта обучающихся и культурной работы с ними. По возможности освещен последующий трудовой путь, педагогическая и пионерская деятельность выпускников курсов. Собраны сведения о зданиях и помещениях, в которых проходили занятия Центральных (Всесоюзных) курсов по подготовке пионерских работников. Материал представляет значительный историко-педагогический и краеведческий интерес.
История Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина, история Всесоюзных центральных курсов по подготовке пионерских работников, пионерские вожатые, центральное бюро юных пионеров (ЦБ ЮП), Народный комиссариат просвещения (Наркомпрос, НКП), освоение опыта СССР в области подготовки кадров детских руководителей
Короткий адрес: https://sciup.org/140309852
IDR: 140309852 | УДК: 377.8
Текст научной статьи Из истории подготовки пионерских работников в Москве (1924 — начало 1930-х гг.)
Введение. Успешная организация подбора и подготовки руководителей детского движения, детских общественных объединений, отрядов, групп, клубов, патрулей, дружин и пр. является непременным условием функционирования этих объединений.
Тема освоения опыта СССР в области подготовки кадров руководителей пионерских отрядов и дружин, пионерских вожатых заняла одно из центральных мест в выступлении президента РАО, доктора исторических наук О. Ю. Васильевой 15 ноября 2024 г. на II Всероссийской Международной конференции «Движения Первых», посвященной воспитанию детей и молодежи на новом историческом этапе развития общества и государства.
История советского вожатства не стала в свое время предметом внимания историков; в работах последних десятилетий в связи с редукцией содержания работы вожатого до организации работы с детьми во время их летнего отдыха (и аналогичным образом самого термина «вожатый» [Кравченко, 2015]) преобладает методический аспект именно рекреационного плана [История вожатского, 2017]; исторические сведения фрагментарны [Костылева, 2020].
Констатируем, что некоторый интерес к изучению проблемы подготовки пионерских кадров в историкопедагогическом аспекте проявился в 1970-е – 1980-е гг. [Зыкова, 1974]; [Кудинов, 1979]; [Гамина, 1984], затем и в XXI веке [Руденко, 2008] и др. Многие авторы, обращаясь к истории пионерской работы в регионах, не могли не затронуть фактов истории организации подготовки пионерских вожатых [Листопадов, 2014]; [Малик, 2024].
Материалы и методы. Пионерская и вожатская пресса 1920-х гг., документы московских и цен- тральных архивов дают интереснейший материал по теме. В работе максимально использованы документы Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ), фонд М–1 (ЦК ВЛКСМ), опись 3 (Протоколы заседаний Бюро ЦК ВЛКСМ и материалы к ним), опись 4 (Протоколы заседаний Секретариата ЦК ВЛКСМ и материалы к ним), опись 23 (Центральный Комитет ВЛКСМ). Значительный интерес представляет дело, целиком посвященное распределению выпускников первых Центральных курсов [РГАСПИ, фонд М-1, оп.23, д.459]. При изучении материалов Центрального архива города Москвы (ЦАГМ) использованы документы МК РКП(б) (ВКП(б)) и МК РЛКСМ (ВЛКСМ) за соответствующие годы (ЦАГМ, фонды П–4, П–634); для уточнения инициалов персоналий привлечены документы Московского городского отдела народного образования Исполкома Моссовета -Мосгороно (ЦАГМ, фонд П-528). Для корреляции обнаруженных данных с уже опубликованными, также для уточнения сведений о зданиях и помещениях, в которых проходили занятия Центральных (Всесоюзных) курсов по подготовке работников деткомдвижения, привлечена справочная литература.
Хронологические рамки работы ограничены датами первых лет истории пионерской организации и началом 1930-х гг., временем больших организационных перемен в ее работе (призыв 50 000 комсомольцев на пионерскую работу в 1929 г.; перенесение работы пионерской организации в школу в начале 1930-х гг.).
Характерной чертой всего этого периода была всё возрастающая потребность в пионерских кадрах - как в связи с быстрым ростом пионерских рядов в 1923–1925 гг., так и в связи с уменьшением количества пионеров в организации в 1926–1928 гг. [История Всесоюзной, 1985, с. 44]; [РГАСПИ. Ф.М-1. Оп.23. д.280. л.5].
В данном исследовании наше внимание сконцентрировано на истории Всесоюзных Центральных курсов по подготовке пионерских работников. История московских губернских курсов освещена нами ранее [Ефимова, 2025]; в работе также находится материал по истории постоянно действовавших образовательных заведений и научных учреждений по указанной тематике -Центрального пионерского кабинета, НИИ ДКД, ВШ ДКД, Центрального дома вожатого.
Результаты исследования и их обсуждение . Курсы - традиционная форма ускоренной подготовки и переподготовки специалистов - в те годы были основной массовой формой обучения пионерских кадров (как руководителей центральных и местных бюро юных пионеров, так и вожатых отрядов, баз, форпостов).
В течение 1924–1932 г. в Москве состоялось 9 созывов Центральных (Всесоюзных) курсов пионерских работников или работников деткомдвижения (детское коммунистическое движение, ДКД; также детская коммунистическая организация, ДКО).
Первый созыв курсов состоялся 11 декабря 1924 г. - 7 марта 1925 г. [РГАСПИ. Ф.М-1. Оп.23. д.279. л.64]; [Центральные курсы, 1924.
с.32]; [Л. Б. [курсант], 1925, с. 38–39]; подготовка велась с августа 1924 г. [РГАСПИ. Ф.М–1. Оп.23. д.282. л.22], т. е. сразу после завершения VI съезда РЛКСМ (12–18 июля 1924 г.), констатировавшего, в частности, что «массовое развитие детского движения тормозилось недостаточным количеством подготовленных руководителей» [Теремякина, 1924. с.1–2]. Более того, еще в отчете Центрального бюро юных пионеров (ЦБ ЮП) при ЦК РЛКСМ VI съезду РЛКСМ указано, что трехмесячные центральные курсы намечены к открытию 15 октября 1924 г. [РГАСПИ. Ф.М–1. Оп.23. д.279. л.64].
Вопрос о курсах стоял на заседании центральной методической коллегии ЦБ ЮП при ЦК РЛКСМ 8 сентября 1924 г. и на заседании ЦБ ЮП от 29 сентября 1924 г. [РГАСПИ. Ф.М–1. Оп.23. л.21, 22] Наркомпрос тогда же включил в смету на 300 тысяч рублей финансирование одних всесоюзных, девяти областных и по одному созыву губернских пионерских курсов на каждую губернию в год [РГАСПИ. Ф.М–1. Оп.23. л.95]
В октябре 1924 г. были разработаны программа курсов и разверстка приема на центральные курсы по губерниям и областям, определена смета, назначен оргкомитет и мандатная комиссии по приему на курсы. Заведующим курсами стал В. А. Зорин, зав. учебной частью – C. М. Ривес [РГАСПИ. Ф.М–1. Оп.4. д.13. л.266]. В ноябре 1924 г. программа и учебный план центральных курсов по ДКД были разосланы в губкомы, обкомы РЛКСМ и соответствующие бюро юных пионеров для предварительного рассмотрения, замечаний и поправок [РГАСПИ. Ф.М– 1. Оп.23. д.281. Л.1–11]. 5 декабря 1924 г. прошло совещание лекторов центральных курсов, где были обсуждены учебный план и методы работы курсов, и особо – план занятий по физкультуре [РГАСПИ. Ф.М–1. Оп.23. д. 281. Л.1–11].
Первые центральные курсы выгодно отличались от последующих критериями целевого набора слушателей, отсутствием проблем с финансированием и хорошей организацией быта. На курсы были вызваны члены губкомов РЛКСМ, члены РКП(б), «активно работавшие на комсомольской работе». Предполагалось, что <…> по окончании курсов они будут руководить губоргциями «Ю. П.» <…> не менее 1 года» (ниже мы увидим, что это условие не было строго соблюдено). Курсантам предоставлялись общежитие, довольствие и все необходимое для курсов [Центральные курсы, 1924, с. 32].
Центральные курсы открылись 11 декабря 1924 г., однако, видимо, некоторые курсанты прибыли в Москву заранее, и ЦБ ЮП озаботилось организацией их рационального досуга: 9 декабря курсанты побывали в театре им. В. Мейерхольда; впоследствии они не раз посещали Московский театр для детей [РГАСПИ. Ф.М–1. Оп.23. д. 282. л.42,44].
Планировался прием 150 человек, но некоторые губернии, в том числе Москва и Ленинград, не выполнили разверстку [РГАСПИ. Ф.М– 1. Оп.23. д. 279. л.71]. На курсах прошли подготовку 143 человека, также были 3 вольнослушателя (в документах их статус не разъяснен)
[РГАСПИ. Ф.М–1. Оп.23. д.459]; представители 28 национальностей. Девушек из них было чуть больше 30. Большинство курсантов (130 чел.) были моложе 22 лет; больше половины состава были комсомольскими активистами уездного, губернского и областного уровней, но раньше не работали с пионерами. Все они, естественно, были комсомольцами, но 25 человек не были кандидатами или членами РКП(б), каковое условие было включено в требования к подбору курсантов. Среднее образование имели всего 23 чел. [Зорин. Центральные, 1925. с. 27–28] Большинству представителей регионов не было сохранено жалование на время обучения (по вине губкомов, как отметил ЦК), и от НКП было получено согласие на предоставление им стипендии [РГАСПИ. Ф.М–1. Оп.23. д.279. л.72].
Зав. курсами В. А. Зорин уже в январе 1925 г. информировал читателей журнала «Вожатый» об организационно-педагогических основах работы курсов; в его статье подведены промежуточные итоги и рассмотрены перспективы дальнейшей работы, что должно было служить ориентиром для планирования будущих курсов в регионах.
Учебная программа состояла из 6 циклов: пионерского, общественно-политического, педагогического, общеобразовательного, физкультуры и гигиены [История Всесоюзной, 1985, с. 31], включала в себя 525 учебных часов и еще 100 часов практических занятий: физкультура, игры, песни, работа в пионерских отрядах Москвы. Ежедневно было 2 часа лекций, 2 часа практики (плюс к ним вечерние занятия в авиакружке), 3 часа семинарских по группам (группы: национальная, крестьянская, промышленная). В декабре занятия начались с общих вопросов детского коммунистического движения и педагогики, лекций по практике пионерской работы и практики в пионерских отрядах Москвы, выездах в пионерские отряды уездов Московской губернии. Далее шли продолжение пионерского цикла, лекции по физкультуре и гигиене, проработка общественно-политического цикла в Ленинские дни (в годовщину смерти В. И. Ленина). В середине курсового времени планировалось прохождение педагогического цикла с увязкой школьной и пионерской работы, далее – общеобразовательный цикл и углубленное продолжение пионерского цикла [Зорин, Центральные …, 1925, с. 27–28].
В январе-марте 1925 г. курсанты активно участвовали в работе методической коллегии ЦБ ЮП при ЦК РЛКСМ [РГАСПИ. Ф.М–1. оп.23. д.455. л.86]; в январе-феврале проводили обследования сельских пионеротрядов Московского уезда Московской губернии [РГАСПИ. Ф.М–1. оп.23. д.460. л.5–10].
После окончания курсов В. А. Зорин выступил в журнале «Вожатый» с анализом их работы, в частности, констатировав «перегруженность программы предметами, не имевшими непосредственного отношения к пионерработе [не уточнено], что привело к некоторой растянутости в начале пионер-цикла, а затем к спешной проработке его». Несомненно, низким в целом общеобразовательным уровнем курсантов, а также отсутствием предыдущей практики проведения курсов объясняется вывод руководителя, что не следовало бы некоторые темы прорабатывать только на семинарах, «так как опыта по этим вопросам ни один работник не имел». Семинары имеют смысл только по пионер-работе, «что было отмечено всеми». Во весь рост встала проблема подбора преподавательского состава, поскольку большинство лекторов по общеобразовательным вопросам были некомпетентны в пионерской работе, «что вредило нормальной проработке общеобразовательных циклов», хотя эти занятия и расширили кругозор курсантов. Удачный подбор руководителей, обусловивший успешное прохождение цикла «Физкультура и гигиена», отмеченный автором статьи, думается, был следствием того, что именно в конце 1924 г. Российским обществом красного креста (РОКК) была организована служба здоровья юных пионеров, активно развернувшая свою работу. Далее зав. курсами указал, что пионер-цикл охватил все вопросы теории и практики детского коммунистического движения, что было основным для каждого курсанта.
Хотя в процессе работы курсов выявилось почти полное отсутствие литературы [РГАСПИ. Ф.М-1. Оп.23. д.279. л.72], было организовано стенографирование лекций, по окончании работы все курсанты получили методические разработки [Зорин, Центральные, 1925, с. 27-28]; эти лекции были впоследствии изданы [В ЦБ ЮП, 1925, с. 43]; [Зорин, К итогам ..., 1925, с. 8-9].
В начале марта 1925 г. заседала «комиссия по распределению детра-ботников, окончивших курсы при ЦБ ЮП» [РГАСПИ. Ф.М-1. Оп.23. д.459]; протоколы имеются в РГАСПИ.
В протоколах заседаний комиссии не у всех выпускников конкретизировано назначение, полученное при окончании курсов, однако при обработке таблиц мы смогли получить такие данные. На работу в губернские бюро ЮП [юных пионеров] направлено 20 человек (из них 6 председателей, 3 зам. председателя, 1 зав. курсами, 1 инструктор, 1 на работу в деревню); в областные бюро ЮП - 5 человек (из них 2 председателя, 2 инструктора); в окружные бюро ЮП - 14 человек (из них 3 председателя, 1 зам. председателя, 2 инструктора, 3 секретаря); в уездные бюро ЮП - 13 человек (из них 5 председателей, 1 зам. председателя, 2 инструктора, 2 уездных работника, 1 работник среди татар). Шесть представителей Узбекистана, Туркменистана, Грузии, Татарии, Дагестана, Армении были направлены в свои регионы на ответственные должности председателей и зам. председателей бюро ЮП, редакторов пионерских газет. Трое выпускников курсов должны были заняться организацией курсов по подготовке пионер-работ-ников в губерниях. В Москве, в ЦБ ЮП оставлено 3 человека (Кремлев А. (или Н.) из Ойротского обкома, Криволапов Л. из Екатеринослава, Тарарин из Донбасса - в будущем крупные пионерские работники [РГАСПИ. Ф.М-1. Оп.3. д.15. л.120-121]); направлены в районные комитеты РЛКСМ и райбюро ЮП Москвы
- 8 человек, из них 6 председателей райбюро (в их числе - будущие известные педагоги, организаторы школьной и внешкольной работы Рейхруд М. И. и Усит В. А.). В райкомы РЛКСМ, горбюро и райбюро ЮП вне Москвы направлено 5 человек (из них 1 председатель горбюро, 1 председатель райбюро, 1 инструктор). На низовую работу в горкомы и укомы РЛКСМ 5 человек; отрядными пионервожатыми 2 человека. У многих выпускников курсов в соответствующей графе стоит отметка «на усмотрение райкома (губкома и пр.)» [РГАСПИ. Ф.М-1. Оп.23. д.459. л.1-12, 62-65].
Уже 27 марта 1925 г. Тарарин и Кривопалов участвовали в заседании методической коллегии ЦБ ЮП [РГАСПИ. Ф.М-1. Оп.23. д.455. л.6]. Криволапов какое-то время возглавлял в ЦБ ЮП комиссию по работе с октябрятами [РГАСПИ. Ф.М-1. Оп.23. д.453. л.2]. С ноября 1925 г. они оба входили в состав президиума и пленума ЦБ ЮП [РГАСПИ. Ф.М-1. Оп.3. д.20. л.70-71; д.23. л.9]. В апреле 1925 г. Тарарин был командирован от ЦК РЛКСМ в Ленинград, в июле в Полтаву, в мае на Рязанское губернское совещание деревенских пионер-работников; Криволапов в мае 1925 г. - на Владимирские губернские курсы пионер-работников, в августе в Ярославскую губернию, в сентябре в Тулу, а с января 1926 г. он возглавил пионерскую работу в Ленинграде [РГАСПИ. Ф.М–1. Оп.3. д.16; Оп.4. д.17. л.5; Оп.4. д.18. л.61; Ф.М–1. Оп.23. д.637. Л.72 и далее]. Кремлев работал в редколлегии журнала «Вожатый» [РГАСПИ. Ф.М-1. Оп.4. д.15; д.18. л.126].
«Проведенные ЦК с декабря 1924 г. по март 1925 г. 1-ые Центральные Всесоюзные курсы по подготовке работников ДКД областного и губернского масштаба, - как отмечено в циркуляре ЦК РЛКСМ по летней работе, - помогли уточнить ряд вопросов практической работы на основе опыта мест и дали губерниям и областям свежий кадр работников ДКД, снятых в большинстве с непосредственной комсомольской работы, что несомненно укрепит организацию и обеспечит в значительной степени ее правильное развитие» [РГАСПИ. Ф.М-1. Оп.23. д.452. л.82].
В. А. Зорин, характеризуя выпуск первых центральных курсов, отмечал, что «большинство губкомов <...> использовало присланных курсантов на более широкой работе, чем их рекомендовал ЦК РЛСМ», что говорит о «ценности полученных курсантами знаний» [Зорин, К итогам ., 1925, с. 8]. «Первый опыт Всесоюзных курсов дал богатый материал как по содержанию пионерской работы, так и по формам подготовки пионер-работников» [Там же, с. 9]. «Выпуск первых центральных курсов дал первый значительный толчок к обновлению руководящего состава детдви-жения - новым, преимущественно рабочим составом работников» [Там же, с. 8].
Как видим, первые центральные курсы лучше других аналогичных мероприятий получили освещение в вожатской периодике и отражение в документах ЦК комсомола.
Этот материал представляет историко-педагогический и краевед- ческий интерес, поскольку, в частности, может помочь дополнить биографии пионерских, комсомольских, педагогических деятелей, активно работавших с детьми сто лет назад.
Первые центральные курсы, как и соответствующие московские губкурсы 1923 года [Ефимова, 2025], носили во многом экспериментальный характер.
Необходима была систематическая работа со всеми тремя группами курсантов: городскими, деревенскими и национальными. IV Всесоюзная конференция РЛКСМ (16– 24 июня 1925 г.), в частности, указала на необходимость разработки вопроса о постоянно действующих курсах пионер-работников при ЦК РЛКСМ [РГАСПИ. Ф.М–1. Оп.3 д.18. л.1–14, 142–145]; [О работе среди пионеров, 1925, с. 8]; [Партия о пионер-движении, 1925, с. 3].
В 1925 г. с учетом прошлогоднего опыта велись разработки программ постоянных курсов; в первую очередь – для деревенских пионерра-ботников.
В планах работы ЦБ ЮП на июль-октябрь 1925 г. говорилось о разработке вопроса «о постоянных центральных курсах для подготовки работников преимущественно для деревни» [РГАСПИ. Ф.М–1. Оп.4. д.18. л.27]. В планах работы ЦБ ЮП на октябрь 1925 г. – февраль 1926 г. значилось: «Провести через орграс-пред [организационно-распределительный отдел ЦК РЛКСМ] подбор курсантов на центральные курсы и провести первый созыв их <…> Проведение первого (крестьянского) созыва центральных курсов, развертывание методической работы в центре и на местах на основании изучения опыта» [РГАСПИ. Ф.М–1. Оп.4. д.20. л.194, 195].
План работы центральных курсов руководителей районными, уездными и губернскими организациями был разработан из расчета созыва в течение года трех составов курсов: один состав деревенских работников, 1 – городских и 1 – национальных. Каждый состав курсов по 90 человек должен был обучаться в течение 3 месяцев. Для всех трех составов курсов в 1925–1926 гг. ЦК РЛКСМ совместно с НКП была составлена смета на 90 000 р.
Срок созыва первого состава курсов деревенских работников был намечен на 15 ноября 1925 г., однако Наркомпрос переработал смету, оставив в ней 58 000 р. на все три состава курсов, сократив количество человек с 90 до 75, сняв несколько ставок, в том числе заведующего учебной частью курсов, и отказался предоставить постоянное помещение для курсов. ЦК РЛКСМ обратился в ЦК РКП(б) с просьбой принять необходимые меры, в т. ч. предложить агитпропу [отделу пропаганды и агитации] ЦК РКП(б) принять активное участие в подготовке курсов и обеспечить их лекторским составом [РГАСПИ. Ф.М–1. Оп.4. д.20. л.128– 129]; [РГАСПИ. Ф.М–1. Оп.23. д.450. л.45–46].
Курсы были профинансированы, задержавшись на несколько недель.
Видимо, именно эти центральные курсы деревенских пионерработ-ников на 90 чел., обозначены в «Истории Всесоюзной пионерской организации в хронике дат и событий»
как состоявшиеся в январе-марте 1926 г. [История Всесоюзной, 1985, с.39]
В обращении секретариата ЦК РЛКСМ к региональным органам комсомола и Наркомпроса в ноябре 1925 г. было декларировано открытие в декабре 1925 г. первого созыва постоянных Центральных курсов для подготовки руководителей и организаторов деткомдвижения ЦК РЛКСМ, рассчитанного на подготовку работников губернского и уездного окружного масштаба крестьянских губерний, 90 человек, сроком на 3 месяца. Критерии отбора курсантов были сходны с критериями курсов 1924–1925 гг. – они должны быть обязательно членами РКП(б), членами или кандидатами губкома-окружкома-укома РЛКСМ, иметь 2-х летний стаж активной комсомольской работы; «быть здоровым, быть рабочим или крестьянином, быть освобожденным от военной службы или по возрасту (до 1905 г.р.) или по другой причине, не мешающей, однако, работе по пионер-дви-жению». Как видим, хотя желательный возраст курсантов не указан, но они могли быть моложе 20 лет, что соотносится с данными о возрастном составе курсантов первых курсов. Представляются важными формулировки: «Быть достаточно развитыми, чтобы по окончании курсов самостоятельно руководить подготовкой работников, читать лекции, доклады и пр. Иметь желание работать по пио-нер-движению и оставаться на этой работе не менее года». Курсанты обеспечивались общежитием, питанием, учебными пособиями. Средства на другие расходы (зарплата на время обучения, проезд) местные комсомольские органы должны были изыскивать на местах. «Неиспользованные к сроку, указанному телеграммой, места будут заполнены за счет ближайших губерний» [РГАСПИ. Ф.М–1. Оп.4. д.21. л.95– 96]. Сведений об обстоятельствах работы вторых курсов нами не обнаружено.
И в дальнейшем курсы деревенских пионерработников были в приоритете перед другими.
Третьи центральные курсы были запланированы на июль-сентябрь 1926 г. [РГАСПИ. Ф.М–. Оп.23. д.636. л.111–118], но по факту были перенесены на более поздний период [РГАСПИ. Ф.М–1. оп.23. д.688. л.6-10]; заведующим курсами 28 сентября 1926 г. был утвержден И. А. Фильцер [РГАСПИ. Ф.М–1. оп.23. д.636. л.82]. Курсы были организованы ЦК ВЛКСМ совместно с НКП, регистрацию курсанты проходили в отделе подготовки педагогического персонала главсоцвоса НКП. От курсантов, кроме прочего, требовалось знание деревни и особенностей организации работы деревенского пио-нер-отряда, а от представителей национальных регионов – умение хорошо писать на русском языке.
Курсы состоялись в октябре-декабре 1926 г. [РГАСПИ. Ф.М–1. Оп.4. д.27]; работали они на базе школы имени А. Н. Радищева по адресу: ул. Радио, д.10а [Фильцер, 1926, с.41–44]. Зав. курсами И. А. Фильцер в своем анализе дал данные о составе курсов, аналогичные обозначенным выше: из 82 курсантов 23 ранее не работали с пионерами, 19 чел. были комсомольцами, но не были членами ВКП(б); девушек было 21 из 82 чел. «Состав этих курсов более молодой по возрасту, комсомольскому и партийному стажу. По развитию же и общему образовательному уровню настоящий состав гораздо выше предыдущих»; также, как видим, было гораздо больше курсантов со стажем пионерской работы – 75% против 50 % на курсах первого созыва. Курсанты были разделены на группы по тем же критериям, что и раньше (национальные, крестьянские, промышленные губернии). При ежедневных занятиях по 7 часов потребовалось 539 учебных часов; курсы продолжались 77 дней, хотя «опыт двух прошедших курсов показал, что 3 месяца мало». В статье И. А. Фильцера конспективно изложены основные положения программы, методически отличающейся от программы первых курсов. «Вводный цикл, задача которого – дать курсантам основные понятия и навыки умственного труда <…> как работать с книгой, как слушать и записывать лекции, как готовиться и проводить доклады». Далее общеобразовательный цикл, куда, в частности, входили вопросы сельского хозяйства и краеведения (интересно, что зав. курсами сообщает, что лекции о происхождении и развитии жизни на Земле не удовлетворили курсантов, поскольку большинство ранее проходили эти темы в школе, читали книги и слушали лекции). Общеполитический цикл, где обсуждались не теоретические и исторические вопросы (видимо – в отличие от прошлых лет), а текущие вопросы партийной и комсомольской работы. Цикл «Гигиена, санитария и физкультура» был более практико-ориентированным. В педагогический цикл были включены «вопросы педологии (особенности детей пионерского возраста и изучение детей) и вопросы теории и практики современной школы (система народного просвещения СССР, программа и методы современной школы, учитель и его роль в школе и общественной жизни, детдвижение и система соцвоса)». Отдельный цикл «Пение» предполагал изучение постановки пения в пионерском отряде и клубе детского песенного творчества, а также разучивание новых пионерских песен «с целью продвижения их на места». Пионерскому циклу, как и ранее, была отдана половина учебного времени курсов: изучение последних документов ЦБ ЮП, проработка предлагаемого «Круга знаний и умений пионеров», особенно для деревенского отряда. Курсанты совершали образовательные экскурсии – в Бутырский совхоз (по теме «Сельское хозяйство»), на биостанцию юных натуралистов (по теме «Краеведение»), в музей революции (общеполитический цикл), а также выезды в сельские школы с целью обследования их работы (педагогический цикл). Выпускники курсов получили направления на пионерскую работу областного (9 человек), губернского (8), окружного (18), уездного (34) масштабов [РГАСПИ. Ф.М–1. оп.23. д.688. л.10].
В январе-марте 1927 г. состоялись четвертые центральные курсы на 90 чел. (зав. курсами – М. Зак) [РГАСПИ. Ф.М–1. Оп.4. д.22]. Как и на прошлых курсах, «силами курсантов Центральных курсов пионерских работников проводилось обследование московской городской организации с целью изучения содержания и выявления новых форм работы пионерских отрядов и звеньев» [История Всесоюзной, 1985, с. 44]. В июне-августе 1927 г. прошли центральные курсы национальных работников [Там же. с. 48], в ноябре 1927 г. – январе 1928 г. – шестые центральные курсы окружных и деревенских пио-нерработников (125 чел.) [Там же, с. 51]. Более подробных сведений о них не имеется.
В течение 1924–1929 гг. вопросы, связанные с деятельностью центральных курсов пионерработни-ков ставились на заседаниях бюро и секретариата ЦК ВЛКСМ (РЛКСМ) более 15 раз.
1929 год стал переломным в области организации подготовки пионерских работников. Состоявшийся в августе 1929 г. Первый Всесоюзный пионерский слет, в частности, принял решение удвоить ряды пионеров, доведя их до 4 миллионов. Для обеспечения отрядов вожатыми была проведена мобилизация 50 тысяч наиболее активных и политически грамотных комсомольцев для работы вожатыми отрядов [см. подробнее: Ефимова, 2022]. Они должны были быть соответствующим образом подготовлены («пропущены через курсы»), и масштабы курсовой работы возросли. Еще с февраля 1928 г. была опробована практика организации заочной подготовки и переподготовки вожатых [История Всесоюзной, 1985, с. 54, 67]. И. В. Руденко указывает, что заочные курсы действовали до этого несколько лет при Всесоюзных Центральных курсах, а в 1928 г. были выделены в самостоятельное учебное заведение «Центральные заочные курсы пионервожатых» [Руденко, с.93]. В апреле-мае и октябре-ноябре 1931 г. в столице состоялись Центральные курсы по подготовке работников среди октябрят [История Всесоюзной, 1985. с. 94]; [РГАСПИ. Ф.М–1. Оп.4. д.56. л.5 (дана разверстка)]. Очевидно, что на курсовое обучение руководящих работников часто не хватало ни средств, ни кадров.
В феврале-апреле 1929 г. прошли Центральные курсы национальных работников областного, окружного и губернского масштаба (76 чел.); срок их работы был сокращен согласно докладной записке зам. председателя ЦБ ДКО А. А. Высоцкого о материальном положении курсантов. Местные органы не смогли организовать сохранение зарплаты на время курсов для 17 работников органов народного образования и 13 производственников; поэтому, указывал А. А. Высоцкий, «семьи 30 чел. курсантов находятся в крайне тяжелом положении, необходимы срочные меры, ибо на курсах создается чрезвычайно напряженная обстановка». Автор предложил эти «30 чел. перевести на стипендию, создать стипендиальный фонд из средств, имеющихся на проведение курсов национальных работников деткомдвижения, сократив их с 2,5 мес. до 2 мес.» [РГАСПИ. Ф.М–1. Оп.4. д.38. л.126,133].
Сведений о зданиях и помещениях, в которых проходили занятия центральных курсов, имеется немного. Кроме упоминания выше школы имени А. Н. Радищева, присутствуют сведения о переписке ЦК ВЛКСМ с Мосгороно, райсоветом и РК ВКП(б) Красной Пресни в сентябре 1929 г. о предоставлении в распоряжение Центральных курсов помещения детского дома имени Воровского в связи с предполагаемым выводом последнего за пределы Москвы, закончившейся неудачей [ЦАГМ. Ф.П–3. Оп.12. д.95. л.5]; [ЦАГМ. Ф.П–634. д.279. л.5]; [РГАСПИ. Ф.М–1. Оп.4. д.41, л.86,86об]. Адрес дошкольного детского дома в документах дан как Пименовский пер., д.14 [ЦАГМ. Ф.П–3. Оп.12. д.95. л.5]; [ЦАГМ. Ф.П–634. д.279. л.5]; [РГАСПИ. Ф.М–1. Оп. 4. д.41, л.86, 86 об]; [Вся Москва, 1925, Отд.II. с. 513]; [Вся Москва, 1926, Отд.II. с. 507]; [Вся Москва, 1927, Отд.II. с. 332]. Имеются сведения о существовании детского дома имени Воровского по адресу: Пименовская улица, д.14 [Сеть учреждений МОНО, 1926, с. 76–77]; [Сеть учреждений МОНО, 1928, с. 97–98]; [Вся Москва,1928, Отд.II. с. 331]; [Вся Москва, 1929, Отд.II, с. 248]; [Вся Москва, 1930, Отд. II, с. 202], а также по адресу: Старопименовский пер., д.14 [Вся Москва, 1931. Отд. II, с.178]. Вероятно, этот детский дом всё же переехал в Московскую область по адресу: ст. Болшево, Северная железная дорога, пос. Старые Горки, 6 просек [Детский дом «Лесной уголок»].
Вопрос «о постоянной стационарной учебной базе ЦБ ДКО» ставился на заседаниях секретариата ЦК ВЛКСМ неоднократно [см. напр. РГАСПИ. Ф.М–1. Оп.4. д.50].
15 июля – 15 сентября 1932 г. на экскурсионной базе НКП в Зеленом городке по Северной железной дороге прошли центральные курсы-лагерь пионерработников на 150 чел. На курсах действовали три секции: работников по школе, по культурномассовой работе, по работе среди октябрят. Переподготовку проходили освобожденные работники республиканских, областных, краевых бюро ДКО, руководившие этими отраслями работы. Зав. курсами был назначен Спицын, завучем – Бухва-нов; зав. базой НКП в Зеленом городке был Петрушко [РГАСПИ. Ф.М–1. Оп.3. д. 95. Л.51–52, 56–59].
В сентябре-октябре 1932 г. состоялись Всесоюзные центральные курсы (150 чел.) [История Всесоюзной, 1985, с. 103]; «по окончании центральных курсов пионерработни-ков оставить тт.: Клейстурп Н. Я., (Средняя Волга), Зверев В. М. (Нижегородский край), Старцев В. А. (Западно-сибирский край)» для работы в Москве [РГАСПИ. Ф.М–1. Оп.4. д.71. л.23].
Заключение. Мы видим, что информация о деятельности Центральных (Всесоюзных) курсов по подготовке работников деткомдвижения разбросана в публикациях ответственных за эту работу комсомольских деятелей и в документах указанных выше архивов; данные, имеющиеся в справочном издании [История Всесоюзной, 1985], приводятся без соответствующих сносок, что затрудняет работу с ними. Заметим, кстати, что при перепроверке сносок одной из первых диссертационных работ по теме (пятидесятилетней давности)
[Зыкова, 1974], нами выявлено значительное количество ошибок в сносках на архивные документы. Представляется, что источниковедческая база по теме практически исчерпана. Предполагаем при этом, что возможно обнаружение сведений о контактах ЦК ВЛКСМ с Наркомпросом по проблемам, связанным с работой курсов, в фонде А–2306 (фонд Наркомпроса) Государственного архива Российской Федерации.
Отметим в заключение, что те же годы и в дальнейшем подготовка и переподготовка ответственных комсомольских работников, занимающихся школьной и пионерской работой, проводилась также в структуре НИИ ДКД, Высшей школы ДКД, АКВ имени Н. К. Крупской.