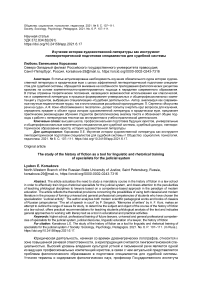Изучение истории художественной литературы как инструмент лингвориторической подготовки специалистов для судебной системы
Автор: Любовь Евгеньевна Корсакова
Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp
Рубрика: Педагогика
Статья в выпуске: 6, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье актуализирована необходимость изучения обязательного курса истории художественной литературы в юридическом вузе с целью эффективной лингвориторической подготовки специалистов для судебной системы, обращается внимание на особенности преподавания филологических дисциплин юристам на основе компетентностно-ориентированного подхода в парадигме современного образования. В статье отражены теоретические положения, касающиеся возможностей использования как классической, так и современной литературы в процессе формирования универсальных и общепрофессиональных компетенций у студентов, выбравших специализацию «Судебная деятельность». Автор, анализируя как современные научные педагогические труды, так и книги классиков российской юриспруденции: П. Сергеича «Искусство речи на суде», А.Ф. Кони «Воспоминания о писателях», делает попытку очертить круг вопросов для изучения, определить предмет и объект курса истории художественной литературы в юридическом вузе, предлагает практические рекомендации обучения студентов филологическому анализу текста и обозначает общие под-ходы к работе с литературным текстом как инструментом в учебно-практической деятельности.
Высшая школа, профессиональная подготовка будущих юристов, универсальные и общепрофессиональные компетенции специалистов для судебной системы, судебный дискурс, лингвори-торическое образование юриста, история художественной литературы
Короткий адрес: https://sciup.org/149132282
IDR: 149132282 | УДК: 372.834:82(091) | DOI: 10.24158/spp.2021.6.17
Текст научной статьи Изучение истории художественной литературы как инструмент лингвориторической подготовки специалистов для судебной системы
Северо-Западный филиал Российского государственного университета правосудия, Санкт-Петербург, Россия, ,
North-Western Branch of the Russian State University of Justice, Saint Petersburg, Russia, ,
Юридическая деятельность, начиная со времен древнегреческих логографов, относится к зоне повышенной речевой ответственности, а юриспруденция считается лингвоинтенсивной специальностью. Высокий уровень владения культурой устной и письменной речи является одной из ведущих профессиональных компетенций юристов, в связи с чем актуальной представляется проблема филологического образования в подготовке специалистов для судебной системы. Уточняя термины и содержания филологических наук, профессор Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина В.И. Аннушкин дает актуальные, на наш взгляд, определения. Так «филологию» известный ученый определяет как «науку о культурном прогрессе человечества, выраженном в правилах создания текстов». С одной стороны, основное внимание уделяется тексту как ведущему компоненту коммуникации, с другой – культурной значимости текста как способа передачи информации. Русский термин «словесность» понимается как «дар слова, наука и искусство слова, совокупность всех словесных произведений», в отличие от термина «риторика», предметом которой является «эффективная и убедительная речь» [1, с. 16]. Вопрос об актуальности изучения русской словесности студентами-юристами отчасти поднимается в трудах И.Т. Голякова [2], И.Н. Куксина [3], В.М. Пивоева [4], А.А. Тимофеевой [5] и др. В статье о необходимости изучения истории художественной литературы в лингвистической подготовке специалистов для судебной системы на основе компетентностно-ориентированного подхода в образовании, думается, следует осветить три важных проблемных вопроса: 1. Зачем юристу надо знать историю художественной литературы (какова цель и мотивация изучения дисциплины)? 2. Что должно входить в предмет изучения (авторы, произведения и т. д.)? 3. Как (междисциплинарная методика литературы) преподавать художественную литературу студентам нефилологических специальностей?
Одной из заметных черт современных молодых людей можно считать склонность к рациональности и прагматизму, молодежь выражает готовность с воодушевлением «потреблять» лишь информацию, имеющую ближайшие дивиденды. Такой мотивацией может служить чтение в целях повышения языковой грамотности. Учеными-психологами доказано, что обучить человека грамотному письму посредством изучения правил правописания на основе морфологического принципа практически невозможно. У большинства людей преобладающим является визуальный канал восприятия, поэтому зрительное запоминание написания слова гораздо эффективнее, чем процесс логически осмысленного письма на основе правил орфографии и пунктуации. Иными словами, чем больше человек читает, тем грамотнее он пишет. Безусловно, данная мотивация поверхностна, но она работает на первом этапе привлечения к чтению, пока молодой человек не почувствует истинного вкуса к осмысленному процессу диалога читателя с автором.
В лингвистической подготовке специалистов для судебной системы большую роль играет дисциплина «Риторика». На наш взгляд, единственным академическим трудом и практико-ориентированным методическим пособием для всестороннего развития судебного оратора и подготовки судебной речи в суде с участием присяжных заседателей сегодня является написанная строго научным языком юридической специальности и в соответствии с лучшими открытиями филологических наук того времени книга П. Сергеича (П.С. Пороховщикова) «Искусство речи на суде» (1910 г.). Языку судебной речи посвящены две главы, на протяжении которых, как в целом и всей книги, блестящий теоретик судебного красноречия не только приводит многочисленные примеры из своего опыта, но и постоянно ссылается на классиков литературного творчества. Развитию речетворческой деятельности судебного оратора способствует, по мнению автора, обращение к произведениям А.С. Пушкина. В главе «О слоге» Сергеич рекомендует: «Перепишите стихи пушкинских элегий, не разделяя их на рифмованные строки, и учитесь по этой прозе. Таких стихов никто никогда не напишет, но такою же хрустальной прозой обязаны писать все образованные люди. Этого требует уважение к своему народу, к окружающим и к себе. <…> У нас многие не прочь похвалиться тем, что не любят стихов. Если бы спросить, много ли стихов они читали, то окажется, что они не равнодушны к поэзии, а просто незнакомы с нею. <…> Мы, однако, обязаны знать Пушкина наизусть; любим мы поэзию или нет, это всё равно; обязаны для того, чтобы знать родной язык во всем его изобилии» [6, с. 17, 25, 26]. Говоря о метафорах и сравнениях в судебной речи, автор приводит примеры из поэм Пушкина «Медный всадник», «Руслан и Людмила», «Полтава», об антитезе – клятву Демона Тамаре из поэмы М.Ю. Лермонтова «Демон», о благозвучии – стихотворения А.А. Фета «Пусть головы моей рука твоя коснется», А.К. Толстого «Сватовство» и т. д. Давая практическое правило обдумывать патетические места своей речи, профессиональный судья советует оратору искусственно усиливать в себе свои естественные чувства: «Сравните сцены смерти у Толстого, описания смерти детей у Диккенса, смерть в «Записках семинариста» у Никитина, описание детства в повести Короленко «Слепой музыкант», возьмите Тургенева и перечтите последнюю сцену на могиле Базарова. <…> Смерть Патрокла описана у Гомера со всеми подробностями, чтобы вызвать сочувствие читателя; для Ахилла <…> достаточно двух простых слов: погиб Патрокл» [7, с. 277, с. 281–282]. На страницах книги «Искусство речи на суде» мы встречаем примеры из произведений Г. Гауптмана «Потонувший колокол», Д. Байрона «Преображенный урод», И. Гете «Фауст», Л. Андреева «Царь Голод», Ф. Шиллера «Пикколомини», П. Корнеля «Цинна, или Милосердие Августа», трагедий У. Шекспира «Гамлет», «Ромео и Джульетта», «Генрих IV». Таким образом, студентам необходимо обладать обширным литературным кругозором, чтобы на должном уровне освоить книгу «Искусство речи на суде». «В литературе нет плохих сюжетов, – пишет П. Сергеич, – в суде нет таких дел, по которым человек образованный и впечатлительный не мог бы найти основы для художественной речи» [8, с. 130].
«Художественное освоение юридической действительности значительно обогащает наши представления о праве, его применении, о содержании деятельности правоведов» [12, с. 31], – пишет в статье о взаимодействии права и искусства А.И. Алексеев. По сути те же мысли мы встречаем у П. Сергеича в главе «О психологии речи»: «<…> для обвинителя и защитника имеет значение более всего психология человека, то есть исследование того, что перечувствовал и передумал подсудимый прежде, чем сделаться преступником <…> она составляет одно из лучших украшений русской литературы. Мы должны знать эти образцы не хуже, чем знаем кассационную практику»; об исходной точке оратора в нравственной оценке преступления: «Его первый вопрос к самому себе – это: было ли преступление естественным отражением характера и других свойств подсудимого, как у Матрены в драме Толстого (Л.Н. Толстой «Власть тьмы») и у леди Макбет (трагедия Шекспира «Макбет»), или оно было противоречием его природе, как у Позднышева (Л.Н. Толстой «Крейцерова соната») и Раскольникова (Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание»)» [13, с. 100, 110]. В предельно остром конфликтном проявлении на суде могут «встретиться» разнообразные человеческие пороки и добродетели, мораль, культура, религия, история. В правовом освещении данный «суд» будет отражен в ходе судебного процесса, в риторике в виде судебного спора, в художественном произведении – в жанре судебной драмы. Интересен пример из воспоминаний А.Ф. Кони в бытность его прокурором Петербургского окружного суда об одном деле, историю которого знаменитый юрист поведал Л.Н. Толстому. Молодой человек, дворянин «с бледным, выразительным лицом и беспокойными, горящими глазами», просил А.Ф. Кони ходатайствовать о браке с арестанткой, «чухонкой-проституткой», по имени Розалия Онни. Через одиннадцать лет сюжет «вылился в удивительное «Воскресение» Л.Н. Толстого [14, с. 474–480].
Истинной целью чтения и изучения художественной литературы является читательская рефлексия, чтение как «практика духовной работы над собой, над воспитанием, самосознанием, смирением, освобождением, оценкой, поощрением, наказанием, оправданием собственной души» [15, с. 103]. Думается, именно так относились к художественной литературе «гиганты и чародеи русского слова» (В.И. Смолярчук [16, с. 16]). Многие из выдающихся русских судебных ораторов были писателями, поэтами, публицистами, литературными и театральными критиками. В истории российской культуры остался организованный В.Д. Спасовичем «шекспировский кружок», куда входили С.А. Андреевский, К.К. Арсеньев, А.И. Урусов, А.Ф. Кони и др. Ждут современного литературоведческого осмысления очерки В.Д. Спасовича о Гете, Шиллере, Байроне, Пушкине, Лермонтове, этюды К.К. Арсеньева о Салтыкове-Щедрине, Некрасове, Майкове, Плещееве, Короленко и др., книга С.А. Андреевского «Литературные очерки» о поэзии Баратынского, творчестве Грибоедова, Лермонтова, Некрасова, Л. Толстого, Гаршина, Чехова, Мопассана, критические статьи А.И. Урусова (под псевдонимом Александр Иванов), стихи и проза известных адвокатов С.А. Андреевского, А.Л. Боровиковского, Н.П. Карабчевского, А.А. Ольхина, А.И. Языкова. Вполне актуальным и достаточно высоким по уровню эмоционального, ценностного, культурно-психологического воздействия на студентов может оказаться курс истории художественной литературы для юристов, построенный на вышеуказанном материале с основой на очерках талантливейшего писателя-мемуариста А.Ф. Кони, его литературных статьях о А. Пушкине, М. Лермонтове, В. Одоевском, о современниках: И. Гончарове, Ф. Достоевском, А. Островском, Л. Толстом, И. Тургеневе [17]. Возможно выстроить курс и на основе взглядов на духовные концепты русской цивилизационной культуры (на Россию, человека, совесть, веру) российских юристов и великих русских писателей.
Вполне достойно изучения художественное творчество и современных российских юристов. К примеру, интересны романы А. Кучерены «Хайп», «Ангел мщения», «Дети Каина», «Время спрута» и др., П. Астахова «Рейдер», «Мэр» и др., сборник рассказов М. Барщевского «Мы?? Мы!», романы «Защита против, или Командовать парадом буду я!», «Лед тронулся» и пьеса «У перекрестка». Обучение студентов филологическому анализу текста советуем построить на коммуникативном подходе в дидактике и на актуальных, также основанных на коммуникативи-стике, неклассических подходах к литературному тексту в современной теории словесности и литературоведческой науке. Изменяется функция художественного текста: он включается в реальный процесс живой коммуникации, используется в реальных сферах и ситуациях общения.
В заключение отметим, что лингвистическое образование – это, во-первых, результат образованности человека, во-вторых, это его реакция на жизнь в целом и на профессиональную деятельность в частности. Под воздействием художественной литературы у образованного человека формируется иной уровень миропонимания и мирочувствования. Кроме того, в лучших образцах художественной литературы посредством образов и идей, устойчивых лексических оборотов и стилистических находок сформирован универсальный «язык» – язык, позволяющий общаться и понимать друг друга людям разных эпох, разных поколений, разного жизненного опыта и различных эстетических вкусов. Но для того, чтобы юрист в совершенстве владел единицами данного языка, в том числе в своей профессиональной деятельности, необходим обязательный курс изучения истории художественной литературы в юридическом вузе.
Список литературы Изучение истории художественной литературы как инструмент лингвориторической подготовки специалистов для судебной системы
- Риторика и культура речи в современном научно-педагогическом процессе и общественно-коммуникативной практике : сб. материалов XХI Междунар. науч. конф. по риторике, 1–3 февраля 2017 г. / отв. ред. В.И. Аннушкин. М., 2017. 584 с.
- Голяков И.Т. Суд и законность в русской художественной литературе. М., 1959. 298 с.
- Куксин И.Н. Юридические сюжеты в русской литературе : симбиоз содержания и формы // Государство и право. 2016. № 3. С. 78–81.
- Пивоев В.М. Право и история художественной культуры: учеб. пособие. Петрозаводск, 2013. 110 с.
- Тимофеева А.А. Русская художественная литература как компонент повышения профессиональной правовой культуры юристов // Балтийский гуманитарный журнал. 2018. Т. 7. № 3(24) С. 311–313.
- Сергеич П. Искусство речи на суде / предисл. Г. Резника. М., 2019. 396 с.
- Там же. С. 277, 281–282.
- Там же. С. 130.
- Кони А.Ф. Собрание сочинений : в 8 т. / ред. В.Г. Базанов. М., 1966–1969. Т. 6 : Статьи и воспоминания о русских литераторах / ред., авт. предисл. А.Б. Муратов. 1968. 694 с.
- Там же. С. 414.
- Там же. С. 416–419.
- Алексеев А.И. Взаимодействия права и искусства // Вестник Московской государственной академии делового администрирования. Серия : Философские, социальные и естественные науки. 2011. № 1. С. 23–31.
- Сергеич П. Указ. соч. С. 100, 110.
- Кони А.Ф. Указ. соч. С. 474–480.
- Гудова М.Ю. Современное чтение как деятельность, культурная практика и социальный институт // Вестник Челябинского государственного университета. 2011. № 30. С. 100–104.
- Смолярчук В.И. Гиганты и чародеи русского слова (Русские судебные ораторы второй половины XIX – начала XX века). М., 1984, 272 с.
- Кони А.Ф. Указ. соч.