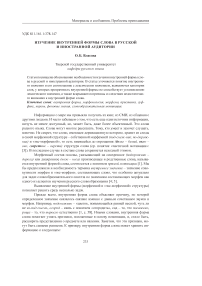Изучение внутренней формы слова в русской и иностранной аудитории
Автор: Власова Ольга Борисовна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Материалы и сообщения. Проблемы преподавания
Статья в выпуске: 3, 2016 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена обоснованию необходимости изучения внутренней формы слова в русской и иностранной аудитории. В статье уточняется понятие внутреннего значения и его соотношение с лексическим значением, выявляются категории слов, у которых прозрачность внутренней формы не способствует установлению лексического значения, а также вскрываются причины и следствия недостаточного внимания к внутренней форме слова.
Внутренняя форма, морфонология, морфема, приставка, суффикс, корень, фоновые знания, словообразовательная мотивация
Короткий адрес: https://sciup.org/146121897
IDR: 146121897 | УДК: 811.161.1:378.147
Текст научной статьи Изучение внутренней формы слова в русской и иностранной аудитории
Информацию о мире мы привыкли получать из книг, из СМИ, из общения с другими людьми. И часто забываем о том, что есть еще один источник информации, ничуть не менее доступный, но, может быть, даже более объективный. Это слова родного языка. Слова могут многое рассказать. Тому, кто умеет и захочет слушать, конечно. Не секрет, что слово, имеющее деривационную историю, хранит ее следы в своей морфемной структуре – собственной морфемной (под-снеж-ник, по-дорожник) и «экс-морфемной», то есть имевшейся до опрощения ( бе лье - белый, ок но -око, с верст ник – верста) структура слова (ср. понятие «частичной мотивации»: [3]). В последнем случае в составе слова сохраняется исходный этимон.
Морфемный состав основы, указывающий на синхронное (подорожник – дорога) или диахронное (нож – нога) производящее и родственные слова, называется внутренней формой слова, соотносится с понятием прямой мотивации [1]. Мы бы предположили и необходимость термина внутреннее значение – значение совокупности морфем и «экс-морфем», составляющих слово, что особенно актуально для задач словообразовательного синтеза по значениям составляющих морфем как одного из аспектов изучения русского словообразования [4; 5].
Выявление внутренней формы (морфемной и «экс-морфемной» структуры) позволяет решить сразу несколько задач.
Прежде всего, внутренняя форма слова объясняет причину, по которой определенное значение оказалось связано именно с данным сочетанием звуков и морфем. Например, подснежник – «цветок, появляющийся ранней весной, чуть ли не из-под снега », огород – связь с понятием «огородить», сад – то, что посажено , роща – то, что выросло естественно [1, с. 58]. Иными словами, внутренняя форма слова помогает узнать признаки, положенные в основу номинации, и, стало быть, расширить представления о предмете или явлении. Заметим, что эти признаки, могут быть самыми разными. К примеру, внутренняя форма слова может хранить информацию о следующем:
-
– о внешнем виде предмета: внутренняя форма слов кольцо, около, колесо, кольчуга, образованных от исчезнувшего коло ‘колесо’ [10, с. 401], сообщает о форме предмета, его составляющих (кольцо, колесо, кольчуга) или границах пространства (около) ; внутренняя форма сущ. горбыль, горбуша, горбушка указывает на особенности предметов; внутренняя форма сущ. чернила напоминает о цвете предмета;
-
– о месте расположения: внутренняя форма сущ. город и огород напоминает о нахождении территории внутри ограждения ; внутренняя форма сущ. слобода (свобода) говорит, что территория находилась за пределами ограждения, на свободе; внутренняя форма сущ. нож хранит информацию о том, где переносился нож (ножной меч), внутренняя форма слова подорожник указывает место произрастания растения;
-
– о соотнесении с другими предметами: внутренняя форма сущ. подснежник говорит о том, что цветок распускается, когда кое-где еще есть снег ;
-
– о требованиях к предмету: приятель – тот человек, которого ты можешь принять (ср.: приять, обнять, объятие );
-
– о действиях предмета: поручик – тот, кто выполняет поручение ;
– о результате действия: внутренняя форма глагола ошеломить (исторически от шлем ) фиксирует состояние человека, потрясенного неожиданной новостью, оно приравнивается к состоянию после сильного удара по шлему (по голове); внутренняя форма глагола расстроить (< строй) показывает, что состояние человека, получившего неприятное известие, отождествляется с состоянием предмета, утратившего целостность (отсюда собраться ).
Как видим, установление внутренней формы позволяет узнать, почему предмет, действие или явление названы так, а не иначе, представляет существенный интерес не только для лингвистики, но и для психолингвистики и лингвометодики [6], позволяет не только расширить представления о предмете или явлении, но и больше узнать о жизни наших предков, об их представлениях о мире.
Например, ровесником , однолетком называли того, кто родился в тот же год, что и говорящий: счет времени на Руси шел, как известно, по светлому и теплому времени года – по лету и весне. Внутренняя форма слов счастье (с частью) , обеспечить (лишить печали) говорит об уровне жизни народа. Хотеть можно того, чего у тебя нет. Если счастье и беспечальность связывались с материальной обеспеченностью, можно говорить о том, наши предки жили без излишеств. Сверстник и супруг получили такое название, потому что наши предшественники видели жизнь сквозь призму метафоры пути: сверстник – это тот, кто по дороге жизни прошел с тобой одинаковое количество верст, супруг – тот, кто с тобой в одной упряжке. Внутренняя форма прил. проницательный подчеркивает способность видеть скрытое, пронизать (пронзить) преграды, проникать внутрь. Нет нужды доказывать, что подобные наблюдения не только занимательны, но и создают багаж фоновых знаний [2], а также способствуют формированию национального самосознания, сближая ушедшие и ныне живущие поколения.
Помимо прочего, знание причин номинации помогает установить причинно-следственные между явлениями сегодняшней действительности, а в ряде случаев и найти рецепт деятельности. К примеру, внутренняя форма сущ. Украина (буквально: ‘то, что у края’) напоминает, что территориальная единица получила такое название по месту своего расположения в пределах Российской империи. Логично предположить, что часть территории государства, расположенная с краю, подвер- гается внешним угрозам в первую очередь. Таким образом, название вскрывает уязвимое положение страны, что многократно подтверждалось и ходом истории. Внутренняя форма сущ. супруги соотносит его со словами упряжка, упряжь, запрягать. Понятие получило такое название, так как супруги мыслились запряженными в одну повозку и тянущими ее по дороге жизни. В этом случае очевидна идея не только жизненного пути, но и распределения ролей: попытка одного облегчить себе жизнь осложняет положение другого.
У русских слов, имеющих деривационную историю, внутренняя форма есть всегда и различается только степенью прозрачности. Поэтому, опознав внутреннюю форму, любой человек может получить массу новой и важной информации. Напротив, игнорирование внутренней формы приводит к смысловым потерям: мы начинаем воспринимать слово как немотивированное (колея, обложной, проницательный) или осуществляем ошибочную мотивацию. Связываем, например, слово близорукий со словом рука , игнорируя корень зор- и родственные связи со словом дальнозоркий . Вопреки тому, что мудренее (Утро вечера мудренее) – форма сравнительной степени сравнения прил. мудреный , упорно соотносим его с прил. мудрый , искажая тем самым смысл пословицы. Ошибочная мотивация нередко приводит к ошибочному написанию. Так, правописание сущ. наслаждение ошибочно проверяется корнем лаг-/лож- , правописание прил. обложной – словом блажь со всеми вытекающими последствиями: на слож дение, о блаж ной . Сущ. поручик , осознаваемое вне связи с поручить , также пишется с ошибкой – пору т чик . Излишне говорить, что при этом значение слов осознаются неверно.
Как видим, внутренняя форма слова заслуживает самого пристального внимания, и интерес к ней отнюдь не праздный. Однако надо с сожалением признать, что этот информационный канал работает плохо. И тому есть несколько причин. Во-первых, многие, особенно не филологи, не привыкли обращать внимание на внутреннюю форму. Во-вторых, внутренняя форма может быть затемнена до полной утраты, и поэтому ее не опознают или опознают неверно. В-третьих, установить внутреннюю форму иногда бывает недостаточно, поскольку человек, даже носитель языка, не видит смысловой связи между внутренней формой и современным лексическим значением слова. Остановимся на этом подробнее.
Если внутренняя форма прозрачна, а внутреннее (словообразовательно мотивированное) и лексическое значения близки (домик, грибок, приехать) , именно самоочевидность этих связей не привлекает к ним внимания. Какой смысл обсуждать то, что само собой разумеется.
Напротив, если внутренняя форма затемнена, мы часто не считываем внутреннего значения просто потому, что не видим его. Между тем затемнение внутренней формы, доходящее иногда до полной утраты, не такое уж редкое явление, оно возможно, например, при утрате производящего (кольчуга, кольцо, окорок, зачин) . Осознанию внутреннего значения слова мешают также значительные фонетические изменения облика слов в истории языка. К примеру, в сознании современного человека не связываются восходящие к одному корню слова: жерло, горло, ожерелье, жертва, жратва, жрец; принять, приемлемый, приятный, приятель, прием, гостеприимный, рукоять; яства, еда, всеядный, есть; грести, сугроб; проницательный, пронизать, проникать, вникать.
Недостаточное внимание к внутренней форме объясняется также тем, что ее прозрачность и сохранение исходного этимона в ее составе отнюдь не означает соответствия внутреннего и лексического значений. Напротив, смысловые связи с непосредственным производящим и другими родственными словами у многих русских слов ослаблены. Например, ослабляются семантические связи с производящим у дериватов переносной мотивации. Семантические связи производного и производящего в таких случаях, конечно, могут быть прозрачны, ср.: свинство ‘низкий поступок, подлость’ ‘грязь, полное отсутствие порядка’ – из свинья ‘домашнее животное, разводимое для получения мяса, сала, щетины’ (перен. О том, кто поступает низко, подло, а также (грубо) о грязном человеке, неряхе) [7, с. 703]; человечный ‘достойный человека, отзывчивый, гуманный’ – из человек ‘живое существо, обладающее даром мышления и речи, способностью создавать орудия и пользоваться ими в процессе общественного труда’ [ Там же, с. 879]. Вместе с тем смысловые связи между компонентами словообразовательной пары могут и размываться из-за разрыва между внутренним (словообразовательно мотивированным) и лексическим значениями деривата, ср.: базарить ‘продавать что-л. на базаре’ > перен. ‘беспорядочно кричать, шуметь’ – из базар ‘торговля определенными товарами в соответствующее время (предпраздничная, сезонная и т. п.)’ > перен. разг. ‘беспорядочный шум, крик’.
Нередко ослабление смысловых связей приводит к полному распадению словообразовательной пары (окно – око, сверстник – верста, ровесник – весна) , и тогда лишь исходный этимон намекает на ее былое существование. Смысловые связи между внутренним и лексическим значением слова чаще размываются при метонимической мотивации ( объегорить ‘обмануть, перехитрить в чем-н’ – Егор; подкузьмить ‘поставить в трудное, неприятное положение, подвести’ – Кузьма; октябренок ‘школьник до пионерского возраста’ – октябрь ), во-первых, потому, что это явление менее частотно, чем метафорическая мотивация, во-вторых, потому, что для установления смысловой связи между производным и производящим требуются фоновые знания, которых может и не быть ( Егор – Егорьев день, Кузьма – день Кузьмы и Дамиана, октябрь – 7 ноября, 26 октября по старому стилю): « Подкузьми́ть “обмануть, поддеть”. От имени собств. Кузьма́ , как объего́рить – то же от Его́р . День св. Козьмы и Демьяна – 17 октября – считался раньше сроком истечения сельскохозяйственных сделок; ср. аналогичное Его́рьев-день, Семён-день и под. Этот глаг. имел первонач. знач. “расстроить надежды, связанные с Кузьминым днем ”…» [9, с. 297]
Семантические связи с производящими словами при сохранении формальных могут быть ослаблены и у дериватов периферийной мотивации. Причина в том, что у слов периферийной мотивации на внутреннее значение, фиксированное во внутренней форме, постепенно наслаиваются смысловые компоненты, не имеющие морфемной фиксации (непривязанные компоненты, «приращенные смыслы»), на основе которых и формируется лексическое значение:
|
Внутреннее значение |
Непривязанные смысловые компоненты |
|
|
Горбуша |
‘то, что с горбом ’ |
‘рыба’ |
|
Горбыль |
‘то, что с горбом ’ |
‘доска’ |
|
Горбушка |
‘то, что с горбом ’ |
‘хлеб’ |
Непривязанные компоненты («приращенные смыслы») могут быть рациональными (рыжик) и эмоциональными, оценочными: зачинщик, зачинатель, проходимец, пролаза, бульварный (о романе), бескрылый (о человеке, лишенном творче- ской фантазии). В любом случае внутренняя форма таких слов хранит преимущественно периферийные компоненты значения, а собственно лексическое значение словно вытекает за пределы морфемной и «экс-морфемной» структур:
|
Лексическое значение |
Внутреннее значение |
|
|
Бойница |
Отверстие для стрельбы в оборонительном сооружении, в стене |
‘что-то имеющее отношение к бою ’ |
|
Рыжик |
Съедобный пластинчатый гриб с рыжей шляпкой и загнутыми вниз краями |
‘что-то рыжее ’ |
|
Разбазарить |
Распродать, раздать по мелочам, бесхозяйственно растратить |
‘сделать что-то на базаре ’ |
|
Ключник |
В старину: слуга, ведающий продовольственными запасами имения, дома, хранитель ключей |
‘имеющий отношение к ключам ’ |
|
Поручик |
1. В царской армии: офицерский чин рангом выше подпоручика и ниже штабс-капитана, а также лицо, имеющее этот чин. 2. В армиях некоторых стран: воинское звание младшего офицера, а также лицо, имеющее это звание |
‘выполняющий поручение ’ |
В итоге, даже видя внутреннюю форму, мы не можем установить мотивированную связь между внутренним (словообразовательно мотивированным) и лексическим значениями слова и утрачиваем интерес к самой внутренней форме, тем самым закрывая для себя важнейший информационный канал, позволяющий развивать орфографические навыки, углублять и расширять фоновые знания о предмете или явлении, получать рецепты деятельности и даже формировать национальное самосознание. Для предупреждения типичных ошибок, связанных с недостаточным вниманием к внутренней форме, на уроках русского языка (как в русской, так и в иностранной аудитории) должна системно и последовательно проводиться работа по вскрытию внутренней формы и опознанию внутреннего (словообразовательно мотивированного) значения.
Список литературы Изучение внутренней формы слова в русской и иностранной аудитории
- Власова О. Б. Прямая мотивация в словообразовательной паре//Вестник Тверского государственного университета. 2008. № 15. С. 125-129.
- Власова О. Б. Словообразовательный механизм формирования вживленной оценки//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2014. № 3. С. 169-174.
- Власова О. Б. Частичная мотивация дериватов в современном русском языке//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2010. № 5. С. 93-99.
- Волков В. В. Аспекты изучения русского словообразования//Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология. 2004. № 1. С. 84-88.
- Волков В. В. Деадъективное словообразование в русском языке: автореф. дис. … докт. филол. наук: 10.02.01/В. В. Волков; Московский гос. ун-т. М., 1993. 46 с.
- Волков В. В. Закономерности русского словообразования: лингвистический, психолингвистический и лингвометодический аспекты//Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2013. № 1. С. 174-178.
- Ожегов С. И. Словарь русского языка. М.: Рус. яз., 1997. 944 с.
- Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь-справочник лингвистических терминов. М.: Просвещение, 1976. 543 с.
- Фасмер М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. Т. 4. М.: Прогресс, 1987. 832 с.
- Шанский Н. М., Иванов В. В., Шанская Т. В. Краткий этимологический словарь русского языка. М.: Учпедгиз, 1961. 404 с.