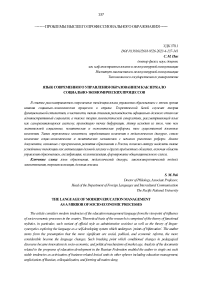Язык современного управления образованием как зеркало социально-экономических процессов
Автор: Пак С. М.
Журнал: Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права @vestnik-ael
Рубрика: Проблемы высшего профессионального образования
Статья в выпуске: 4, 2023 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются современные тенденции языка управления образованием с точки зрения влияния социально - экономических процессов в стране. Теоретической базой служат теория функциональной стилистики, в частности, такая стилевая разновидность официально - делового стиля как административный социолект, а также теория лингвистической синергетики, рассматривающей язык как саморазвивающуюся систему, проходящую точки бифуркации. Автор исходит из того, что чем значительней социальные, политические и экономические реформы, тем существенней языковые изменения. Таким переломным моментом, определившим изменения в педагогическом дискурсе, стало изменение социо - экономических и политических механизмов с началом рыночных реформ. Анализ документов, связанных с программами развития образования в России, позволил автору выделить такие устойчивые тенденции как активизация деловой лексики в других предметных областях, включая область управления образованием, англификация, коллоквилизация, формирование общенационального сленга.
Язык образования, педагогический дискурс, лингвосинергетический подход, заимствования, терминологизация, деловая лексика
Короткий адрес: https://sciup.org/143180811
IDR: 143180811 | УДК: 378.1 | DOI: 10.38161/2618-9526-2023-4-137-141
Текст научной статьи Язык современного управления образованием как зеркало социально-экономических процессов
Системность - основной принцип и характеристика языка как открытой, саморазвивающейся системы, на которую оказывают воздействия как внутренние, так и внеязыковые тенденции. С этих теоретических позиций исследуются функциональные стили языка, в частности такая разновидность официально-делового стиля как административный социолект, который определяется как стилевая разновидность языка, свойственная устной и письменной формам речи представителей власти, в том числе язык административно-политических документов. Также активно развивается такое направление науки о языке, как лингвосинергетика. Лингвосинергетический подход связан с функционально-комму-никативной теорией языка, согласно которой язык выступает в роли коммуникативной, или дискурсивной системы. Лингвосинергетика рассматривает язык как самоорганизующуюся систему, связанную с сознанием субъектов коммуникации и общеязыковой системой [1, с. 65]. Между двумя указанными системами происходит постоянное взаимодействие, которое проявляется в отторжении смысловой системой языка излишков информации и их рассеивании в окружающую среду, которая, в свою очередь осуществляет приток ресурсов, заполняющих пробелы в смысловой системе языка. Синергетика как новое мировидение ликвидирует пропасть между этими двумя мирами, миром языковой системы и миром человека, устанавливая общие механизмы самоорганизации, присущие и тому и другому. «Тем самым наука, в том числе и естествознание, становится гуманитарной, очеловеченной, а сложному миру человеческой субъективности, в свою очередь, не чужд научный -синергетический - подход» [2, с. 90].
Внутренняя, синергетическая связь между языком и говорящим субъектом описывается в традициях отечественной науки в терминах социальной лингвистики, в США с позиций этнографии коммуникации. С этой точки зрения изучаются различные формы существования и функционирования языка, обусловленные географическими, социально-биоло-гическими, функциональными, или ситуативными критериями. Хорошо известна модель в форме акронима SPEAKING, разработанная Д. Хаймзом [3] в русле американской этнографии коммуникации, вбирающая, наряду с параметрами коммуникативного акта (ситуация общения, участники, цели, способы коммуникации), финальный компонент ‘g’ (genre) - устойчивые, типические формы коммуникации.
Чем значительней социальные, политические и экономические реформы, тем существенней языковые изменения. Русский язык дает богатейший материал для описания лингвосинергетических тенденций, при которых дискурсивная практика определяет внутреннюю структуру языка. Важным проявлением синергетической природы дискурса как реального функционирования языка в определенной коммуникативной ситуации является вовлечение лексики одной предметной области в другую. Например, «…мода на «ламповость» (из текста «Ключевых направлений развития российского образования для достижения Целей и задач устойчивого развития в системе образования до 2035 г.») для данного типа текста чужеродна и «втянута» по принципу синергии из молодежного сленга, означает «атмосферу индивидуальности, непринужденности, уюта». Наблюдения над языком российского управления образованием и составляют предмет данной статьи. Материалом выступают текст проекта документа «Ключевые направления развития российского образования для достижения Целей и задач устойчивого развития в системе образования до 2035 г.», опубликованный Российской Академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 13.02.2020, а также Программа развития ТОГУ «Приоритет 2030».
В работе «Общественные процессы и развитие современного русского языка. Очерк изменений в русском языке конца XX - начала XXI века» ведущий отечественный лингвист И.А. Стернин еще 20 лет назад убедительно показал, что главным образом изменения под воздействием внеязыковых факторов касаются функционально-стилистического компонента значения лексических единиц [4, с. 38]. В анализе языковых процессов И.А. Стернин указывает на «межстилизацию лексики», т.е., слова теряют стилистическую маркированность как «книжные», «терминологические», «специальные». В терминах лингвосинергетики можно говорить о точке бифуркации системы языка современного российского образования, которой явилась смена государственного курса в сфере образования на его либерализацию. Система языка образования неизбежно вобрала в себя и освоила слова из сферы бизнеса (доход приносящая деятельность, инновационный проект, стратегическая сессия, т.д.), когда в 90-е годы социально-политические потрясения произвели диффузию структуры общества, и как следствие, «размыли» границы лексических стилевых систем.
Анализ документов показывает значительный «крен» в сторону делового языка. Приведем несколько примеров активизации лексики тематических сфер «бизнес», «рыночная экономика». Частотны такие выражения, заимствованные из сферы бизнеса, как «устойчивое развитие», «внедрение инноваций», «миссия университета», «человеческий капитал», «производство продуктов и услуг», «оценка стратегических показателей», «управленческие команды», «инновационная мобильность региональной экономики», «комплексные экспертизы развития» «наращивание объемов (образовательных) продуктов», «средний индекс потребительской лояльности», «линейки образовательных программ». Общая тенденция делового языка последних десятилетий связана с общей англификацией, которая проявляется во всех языковых сферах и ситуациях в формах транскрибирования, транслитерирования или калькирования: «ключевой драйвер развития, «диджитализация управления», «бренд», «трек», «рекрутинг», «имбридинг», «карьерный лифт».
Это явление связано с другим проявлением синергетических тенденций в языке управления образованием - «коллоквилизацией» (термин И.А. Стернина), или снижением официальности, описывающих эффект от процессов общего снижения качества русского языка, формирование общенационального сленга. Этот процесс проявляется в использовании разговорных, разговорно-сниженных, а также в усилении субъективности и категоричности высказываний. Коллоквилизация наблюдается в текстах рассматриваемых официальных документов, что подтверждает общую тенденцию к сниженному стилю, например, «…им окажется не по карману «элитное» образование», «зазубривание»; использование слов в переносном значении: «Стремительное обновление информации лишает смысла «зазубривание» дат, терминов и определений, упакованных в классическую школьную программу».
Большую долю в этом новом русском языке также занимают англоязычные заимствования различной стадии адаптации русским языком. Ряд слов полностью морфологически освоены русским языком и активно используются в деловом дискурсе, например, «нетривиальные форматы коллаборации», «трансфер инноваций и актуальных компетенций». В СМИ давно идут дискуссии о кризисном положении русского языка, его загрязненностью неоправданными заимствованиями. В предыдущей работе автор рассуждает о засилье заимствованных слов и калькированных структур: «…нет сомнения, что годы либерализации, рыночной экономики, идеологии глобализма и тенденций интернационализации различных сфер жизни привели к внедрению в сознание людей новых тенденций и технологий ведения бизнеса, межличностного взаимодействия, а язык неизбежно закрепил эти тенденции как с точки зрения интернационализации экономической и банковской терминологии, так и в силу того, что эти слова несли явные положительные коннотации» [5, с. 141]. Не случайно М.А. Кронгауз назвал книгу 2017 года «Русский язык на грани нервного срыва» [6]. Системы дискурсивных систем СМИ, административноделового дискурса, в том числе сферы образования, других предметных областей проявляют схожие тенденции засилья заимствований. Заимствований в разных сферах общения стало так много, что, по мнению проф. М. А. Кормилицыной, не знающим английского языка даже газету читать стало невозможно [7, с. 371].
К явно отрицательным тенденциям следует отнести калькирование английских слов при наличии русскоязынных аналогов, например, рассмотрим следующий фрагмент. «Экономика будущего потребует не только высокого уровня «хард скилз» для производства массовых продуктов и услуг для населения, но и сформирует условия для рационального, персонального потребления, для создания уникальных продуктов. Мода на «ламповость», на уникальность и «хенд мейд» возрастет»; «…требуется существенный «апгрейд» преподавателя и не только в сфере цифровых компетенций». Хард скилз, апгрейд, хенд мейд употребляются в кавычках, что маркирует их инородный характер как «встроенных» в текст документа элементов. Неустойчивость употребления таких инородных вставок подтверждается, например, тем, что наряду с кальками используются и переводные аналоги: «При этом роль классических учебных предметов — таких, как математика, информатика, русский язык и другие сохранится — с тем условием, что оцениваться будут не предметные, а метапредметные компетенции, «гибкие навыки».
Некоторые слова терминологизировались. Например, повторяющаяся несколько раз фраза «форматы неформального и информального образования» содержит лексему «информальный», которая была введена в научный педагогический обиход как калька с английского ‘informal’ для разведения понятий «неформальное» образование, т.е. организованное за рамками учебных учреждений в таких формах как учебные центры, курсы, и «информальное», осуществляемое за пределами образовательной среды и не имеющее определенной структуры. Слово «краудсорсинг» используется в следующем отрывке: «. .проиллю-стрировать влияние ценностей сетевой культуры на образование может формат самоорганизующейся школы, в которой преподаватели и обучающиеся собираются по принципам краудсорсинга и между ними отсутствуют жесткие социальные границы». Как видно из контекста, степень терминологизации здесь ниже, т.к. лексема снабжена описательными фразами. Усвоенными терминами в деловом языке и, как следствие, активно функционирующими в языке образования, являются «хаб», «пул», «буллинг», «дата-сеты», «фандрайзинг», т.д.
Следует констатировать, что при освоении русским языком иностранных слов наблюдается параллельное заимствование морфологических форм, например, слова «practice», «industry», «economy», «activity» в английском языке имеют формы и единственного, и множественного числа; последняя при переводе снабжается словами «виды», «отрасли», «типы». Однако наблюдается устойчивая тенденция употребления следующих форм: «…обеспечение конкурентоспособности России в глобальном соревновании инновационных обществ и экономик», «приоритеты ключевых политик университета», «студенческие медиаактивности». Заимствование морфологической формы без корневой лексемы также реальность современного русского делового языка, например, слово «среда» в значении «обстановка» имеет форму только единственного числа, но частотно и обратное: «…специалисты будут работать в мультиязычных и мультикультурных средах».
Носители русского языка уже не реагируют как на нечто чужеродное на такие выражения как «планируемые эффекты», «знаниевые активы», «трансфер технологий». Наконец, наблюдается тенденция заимствования и калькирования англоязычных морфологических структур, например, «бизнес-игры», «бизнес-симуляции», «ИТ-сфера», «визитинг-профес-сура», «постдок». Последние примеры представляют собой композитные лексические единицы, оформленные по грамматическим законам английского языка.
Таким образом, очевидно, что система русскоязычного административного социолекта в сфере образования, с одной стороны, ассимилировала общие тенденции русского языка, внедрив их в русскоязычный деловой узус, с другой стороны, способствует дальнейшему «размыванию» границы функциональных стилей
Список литературы Язык современного управления образованием как зеркало социально-экономических процессов
- Герман И.А. Лингвосинергетика. - Барнаул: Изд-во Алтайской академии экономики и права, 2000. - 168 с.
- Пятаева Н. В. Антропоцентрический и синергетический принципы лингвистики в динамическом исследовании лексических гнёзд. 3-е изд. - Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2019. - 186 с.
- Hymes D. Models of interaction of language and social life // In.: Gumperz J., Hymes D. Directions in Sociolinguistics: The Enthropology of Speaking. - Cambridge: CUP, 1974. - P.50-64.
- Стернин И.А. Общественные процессы и развитие современного русского языка. Очерк изменений в русском языке конца ХХ века. - Воронеж: ВГУ, 2004. - 93 с.
- Пак С.М. К вопросу об англификации современного русского языка // Проблемы и перспективы социально - экономического развития России в XXI веке. Сб. научных статей IV Всероссийской научной конференции. Хабаровск, 31 марта 2023 г. Выпуск 4. - Хабаровск: ХГУЭП, 2023. - С.140-146.
- Кронгауз М.А. Русский язык на грани нервного срыва. Москва: - Издательство АСТ: CORPUS, 2017. - 512 с.
- Дегальцева А. В., Сиротинина О. Б. К проблеме изменения норм современного русского языка // Известия Саратовского университета. Сер,6 Филология. Журналистика. 2022. Т.22, вып.4 - С.368-376.