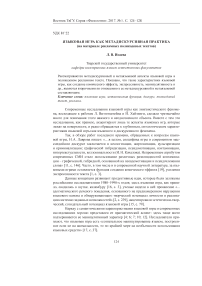Языковая игра как метадискурсивная практика (на материале рекламных поликодовых текстов)
Автор: Исаева Людмила Вадимовна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Лингвистика
Статья в выпуске: 1, 2017 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются метадискурсивный и метаязыковой аспекты языковой игры в поликодовом рекламном тексте. Показано, что такие характеристики языковой игры, как создание комического эффекта, экспрессивность, манипулятивность и др., являются вторичными по отношению к ее метадискурсивной и метаязыковой составляющим.
Языковая игра, метаязыковая функция, дискурс, поликодовый текст, реклама
Короткий адрес: https://sciup.org/146121969
IDR: 146121969 | УДК: 81’22
Текст научной статьи Языковая игра как метадискурсивная практика (на материале рекламных поликодовых текстов)
Современные исследования языковой игры как лингвистического феномена, восходящие к работам Л. Витгенштейна и Й. Хейзинги, сделали чрезвычайно много для понимания этого важного и неоднозначного объекта. Вместе с тем эти исследования, как правило, акцентируют лишь те аспекты языковых игр, которые лежат на поверхности, и редко обращаются к глубинным, онтологическим характеристикам языковой игры как языкового и дискурсивного феномена.
Так, в обзоре работ последнего времени, обращенных к вопросам языковой игры, Н. А. Лаврова пишет: «…в целом, специфика игры в современном массмедийном дискурсе заключается в неологизации, жаргонизации, вульгаризации и криминализации; графической гибридизации, псевдомотивации, контаминации, интертекстуальности, коллоквиальности (И. Н. Качалова). Непременным атрибутом современных СМИ стало использование различных разновидностей контаминации – графической, гибридной, основанной на псевдомотивации и псевдочленении слова» [11, с. 146]. Часто, в том числе и в современной научной литературе, за языковыми играми оставляется функция создания комического эффекта [19], усиления экспрессивности текста [1, с. 3].
Данные концепции развивают продуктивные идеи, которые были заложены российскими исследователями 1980–1990-х годов; здесь языковая игра, как правило, сводилась к шутке, каламбуру [16, с. 3], ученые видели в ней проявление «... адогматического речевого поведения, основанного на преднамеренном нарушении языкового канона и обнаруживающего творческий потенциал личности в реализации системно заданных возможностей» [2, с. 239], акцентировали эстетически-твор-ческий, созидательный потенциал языковой игры [15, с. 79].
Наряду с семантическими характеристиками языковой игры в современных исследованиях хорошо представлен ее прагматический аспект: здесь чаще всего подчеркивается ее манипулятивный характер [4; 6; 7; 10; 12]. Исследователи признают, что языковая игра есть «сознательное манипулирование языком, построенное если не на аномальности, то по крайней мере на необычности использования языковых средств» [17, с. 37].
В исследованиях по рекламе такого рода прагматическую установку называют персуазивной, а сам речевой акт, где персуазивность становится принципом организации локутивного уровня, именуют персуазивом [15].
Таким образом, посвященные языковой игре работы прагма-функциональ-ной ориентации позволяют увидеть в ней не только некое «украшение» дискурса, но и инструмент глубинной переработки когнитивных структур, лежащих в его основании. Мы добавляем в список стратегий языковой игры, наряду с креативными, еще одну – деструктивную [8], а также считаем, что языковая игра лежит в основании такого когнитивного феномена, как рефрейминг [9].
В отмеченной выше работе Г. В. Пономаревой данная стратегия не указана, хотя движение к пониманию ее роли и функции есть: деструктивный потенциал персуазива состоит в «…нарушении нормативности построения языковых выражений и принципов их декодирования» [15, с. 10]. Но ведь ошибки в категоризации, на основе которых только и возможно формирование «людем» (минимальных единиц игрового поведения), – это не частные, единичные ошибки. Они следствие разрушения самого принципа категоризации, а следовательно, и той основанной на принципах категоризации картины бытия, в рамках которой живет потребитель рекламного продукта. Это открывает еще одну важную лингвистическую характеристику языковой игры. Мы предполагаем, что языковая игра есть, кроме всего прочего (а может быть, и по преимуществу), метадискурсивная практика, а в игровых текстах, в том числе и в рекламных, реализуется метаязыковая функция языка.
Напомним: вслед за К. Бюлером наиболее полно номенклатуру языковых функций разработал и изложил в своих работах Р. О. Якобсон [21]. В последующие годы появились работы, в которых данная номенклатура и используется, и расширяется (см., напр.: [5]). Метаязыковая функция Р. О. Якобсоном определяется в терминах различия «между двумя уровнями языка: “объектным языком”, на котором говорят о внешнем мире, и “метаязыком”, на котором говорят о языке <…> предметом речи становится сам код: речь выполняет здесь метаязыковую функцию (то есть функцию толкования)» [21, с. 201–202]. Но ведь метаязык может быть представлен не только как словесная конструкция, управляющая последовательностями «объектного языка», но и как дискурсивный в своей основе принцип конструирования , выполняющий ту же функцию.
О языковой игре как мета-деятельности исследователи писали, хотя и бегло, предлагая использовать ее для оптимизации овладения ребенком родным языком, когда «языковые игры и детские стишки ( nurseryrhymes ) развивают металингвистическую компетенцию» [22, с. 49].
Языковая игра как метадискурсивная деятельность есть игра с кодовой системой, на основе которой шифруется сообщение. Суть этой игры состоит в нарушении алгоритма, определяющего работу кода. Вместе с тем «сбой» в работе кодовой системы не приводит к потере информации – напротив, он есть средство порождения новой содержательности.
Семантические последствия данного «сбоя» в работе кодовой системы (фактически – семантические последствия языковой игры) проблематизированы в филологии. Признав, что «в художественном тексте значение возникает не только за счет выполнения определенных структурных правил, но и за счет их нарушения» [13, с. 123], Ю. М. Лотман рассматривает данный парадокс в контексте теории информации. Данный парадокс имеет свое разрешение, и оно дано в искусствоведении. «Сбой» в работе кода обеспечивает крайне важный для искусства эффект «остране-ния» [20, с. 14], – отклонения от принятых в кодовой системе норм и правил, нару- шения алгоритма кодирования приводят к «затрудненному», «деавтоматизированно-му» чтению, что «оживляет» слово и приводит к созданию художественного образа. Поскольку реклама пользуется технологиями искусства [3, с. 31], данная процедура релевантна и для рекламного дела. Сбой в кодовой системе на одном из уровней рекламного поликодового текста ведет к его реструктурированию и ресемантизации.
Схема языковой игры как метадискурсивной практики в поликодовом вербальном тексте может быть выведена на основе следующего примера: ШвейЦарские часы . Это реклама часового магазина, предлагающего часы, произведенные в Швейцарии. Языковая игра как форма метадискурсивной практики, направленная на задействованные в сообщении кодовые системы, удваивает семантику атрибутивной единицы рекламного сообщения, делая часы привлекательными вдвойне.
Фиксация сообщения здесь происходит на основе целого ряда кодов – фонологического, графического, морфологического, лексико-семантического, стилистического и др. Языковая игра есть практика сознательного нарушения, сбоя на одном из кодовых уровней. При этом частичное разрушение поликодовой структуры на одном уровне вызывает реструктуризацию текста и компенсируется на других его уровнях. В данном случае эта компенсация проявляется как удвоение позитивной семантики атрибутивной единицы текста, то есть как изменение его содержательности.
Нарушая морфосемантический код (используя механизм псевдочленения на уровне графического кода), рекламист в приведенном рекламном сообщении выделяет имплицитно присутствовавший сегмент Царские , актуализируя его как самодостаточную семантическую единицу. Актуализованная сема вступает во взаимодействие с базовой семантической единицей (лексико-семантический код) Швейцарские , за счет чего и удваивается позитивная коннотация номинативной единицы, а рекламируемый продукт – часы – обретает черты дополнительной привлекательности: это швейцарские часы, в которых есть что-то царское .
Семантика одного слова перераспределяется между вновь возникающими словами, что видоизменяет общую семантическую конфигурацию текста. Но одновременно на уровне импликатур видоизменяется и стереотипизированное представление о самих принципах морфологического членения, характерных для языка – так реализуется метакомпонент языковой игры как дискурсивной практики.
Перспективы исследования языковой игры как метадискурсивной практики многообразны. В частности, поскольку рекламный текст как поликодовое образование включает в себя не только вербальный, но и многие другие уровни, важно и интересно определить метакомпонент в отношении иных семиотических составляющих рекламного сообщения и в целом – единого поликодового текста. Это, безусловно, поможет в еще большей степени прояснить суть рекламы как чрезвычайно важного и популярного объекта современной лингвистики текста и дискурса.
Список литературы Языковая игра как метадискурсивная практика (на материале рекламных поликодовых текстов)
- Викторова О. А. Особенности поликодовых демотивационных постеров с включением языковой игры: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.19/О. А. Викторова; Тверской гос. ун-т. Тверь, 2016. 18 с.
- Гридина Т. А. Принципы языковой игры и ассоциативный контекст слова в художественном тексте//Семантика языковых единиц: Доклады VI Междунар. конференции: в 2 т. Т. 2. М., 1998. С. 239-241
- Должикова С. Н. Организация информации в предметной области «Маркетинг»: интерпретационный и системообразующий аспекты: автореф. дис. … докт. филол. наук: 10.02.19/С. Н. Должикова; Кубанский гос. ун-т. Краснодар, 2009. 53 с.
- Доценко Е. Л. Психология манипуляции. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1996. 279 с.
- Заика В. И. Модель функций языка и речи для дисциплин, изучающих употребление языка//Bialostockie Archiwum Jezykowe. 2013. № 13. S. 415-430.
- Зирка В. В. Манипулятивные игры в рекламе: лингвистический аспект. М.: URSS: Либроком, 2010. 253 с.
- Ильясова С. В. Языковая игра в коммуникативном пространстве СМИ и рекламы. М.: Флинта: Наука, 2009. 295 с.
- Исаева Л. В. Деструктивные стратегии персуазива как речевого акта в «игровом» рекламном тексте//Вестник Оренбургского государственного университета. 2010. № 11 (117). С. 123-128.
- Исаева Л. В. Языковая игра в поликодовом рекламном тексте//Вестник Орловского государственного университета. Серия: Новые гуманитарные исследования. 2011. № 2 (16). С. 346-350.
- Каинова Т. В. Дискурсивно-семиотический подход к адаптации транснациональной рекламы: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.19/Т. В. Каинова; Тульский гос. ун-т. Тула, 2002. 23 с.
- Лаврова Н. А. Еще раз к вопросу о языковой игре//Путь науки. Междунар. науч. журнал. 2014. № 1 (1). С.145-148.
- Лисоколенко Т. В. Игра в медиапространстве//Актуальнi проблеми фiлософiї та соцiологiї. Вип. 3. Одеса: Одеська юрид. академiя, 2015. С. 67-71.
- Лотман Ю. М. О поэтах и поэзии. СПб.: Искусство-СПб, 1996. 848 c.
- Норман Б. Ю. Грамматика говорящего. СПб.: Изд-во СПбГУ, 1994. 228 с.
- Пономарева Г. В. Каламбур как форма реализации языковой игры в англоязычной персуазивной коммуникации в аспекте перевода: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.19/Г. В. Пономарева; Кубанский гос. ун-т. Краснодар, 2009. 24 с.
- Русская разговорная речь. Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис/отв. ред. Е. А. Земская. М.: Рус. яз., 1981. 224 с.
- Санников В. З. Русский язык в зеркале языковой игры. М.: Языки славянской культуры, 2002. 552 с.
- Терских М. В. Реклама как интертекстуальный феномен: автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.01/М. В. Терских; Омский гос. ун-т. Омск, 2003. 26 c.
- Цикушева И. В. Феномен языковой игры как объект лингвистического исследования//Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2009. № 90. С. 169-171.
- Шкловский В. Б. О теории прозы. М.: Сов. писатель, 1983. 384 с.
- Якобсон Р. О. Лингвистика и поэтика//Структурализм: «за» и «против»: сб. статей. М.: Прогресс, 1975. С. 193-230.
- Wray A., Trott. K. Bloomer A. Projects in linguistics: A practical guide to researching language. L.: Arnold. 303 p.