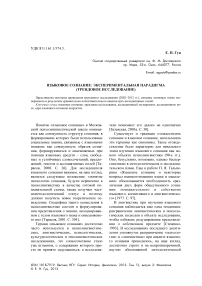Языковое сознание: экспериментальная парадигма (трендовое исследование)
Автор: Гуц Елена Николаевна
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 2 т.12, 2013 года.
Бесплатный доступ
Представлена методика проведения трендового исследования (2002−2012 гг.), описаны основные этапы эксперимента и результатысравнительно-сопоставительногоанализа трехассоциативных полей.
Языковое сознание, трендовое исследование, ассоциативный эксперимент, ассоциативное поле, ядро языкового сознания подростка
Короткий адрес: https://sciup.org/147218745
IDR: 147218745 | УДК: 811.161.1/374.3
Текст статьи Языковое сознание: экспериментальная парадигма (трендовое исследование)
Понятие «языковое сознание» в Московской психолингвистической школе понимается как совокупность структур сознания, в формировании которых были использованы социальные знания, связанные с языковыми знаками; как совокупность образов сознания, формирующихся и овнешняемых при помощи языковых средств – слов, свободных и устойчивых словосочетаний, предложений, текстов и ассоциативных полей [Тарасов, 2000. С. 26]. Для исследователя языкового сознания важным, на наш взгляд, является следующее положение: «понятие психологии сознания, будучи перенесено в психолингвистику в качестве готовой познавательной схемы, также получает частнометодологический статус и поэтому должно получить новое теоретическое осмысление. Специфика такого осмысления в психолингвистике состоит в формулировании представления о знании, ассоциированном с телом языкового знака и овнешняемо-го им» [Тарасов, 2001. С. 304].
Термин «языковое сознание» достаточно часто используется в психолингвистических, лингвистических, психологических, культурологических и этнолингвистических исследованиях, это словосочетание стало уже штампом, о содержании которого просто не принято задумываться, а исследова- тели понимают его далеко не однозначно [Залевская, 2003а. С. 30].
Существует и традиция отождествлять сознание и языковое сознание, использовать эти термины как синонимы. Такое отождествление было характерно для начального этапа изучения языкового сознания как нового объекта психолингвистики (90-е гг.). Оно, безусловно, возможно, однако бесперспективно в методологическом и исследовательском плане. Еще в работе П. Я. Гальперина «Языковое сознание и некоторые вопросы взаимоотношения языка и мышления» обосновывается необходимость «различения двух форм общественного сознания: познавательного и собственно языкового, когнитивного и лингвистического» [1977. С. 97].
В лингвистике при изучении языкового сознания наблюдается еще одна тенденция: разграничение лингвистических и психологических подходов к объекту исследования, чтобы избежать редуцирования представления о собственном предмете [Стеценко, 1993]. В исследованиях последнего десятилетия упомянутое разграничение «психологии» и «лингвистики» при анализе языкового сознания проводилось, на наш взгляд, достаточно строго и на непротиворечивой, научно обоснованной методологической
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2013. Том 12, выпуск 2: Филология © Е. Н. Гуц, 2013
базе (Е. Ф. Тарасов, А. А. Залевская, Т. Н. Ушакова, Н. В. Уфимцева, Е. И. Го-рошко, В. Е. Гольдин, А. П. Сдобнова, Е. В. Харченко, Н. В. Дмитрюк, А. П. Бор-гоякова, Р. Л. Османова и др.).
Очевидно, что в термине «языковое сознание» объединены две различные сущности: «сознание – психический феномен нематериальной природы (его нельзя измерить по пространственным признакам, нельзя услышать, посмотреть на него) и материальный феномен произносимой или записываемой речи, а также физиологический процесс формирования вербальных языковых связей» [Ушакова, 2000. С. 17].
На наш взгляд, большое методологическое значение имеет высказывание Т. Н. Ушаковой о том, что «при всей значительности понятия “языковое сознание” оно таит в себе опасность для научной мысли: при громадности проблемы связи психики и материи возникает искушение представить переход от одного к другому как простой и непосредственный. Однако этот переход возможен лишь в результате огромной работы природы, и без ее понимания мы не можем претендовать на научное объяснение взаимосвязи психического и материального» [Там же. С. 22].
Как любое междисциплинарное понятие, «языковое сознание» способно ввести в заблуждение исследователя, попадающего, по образному выражению А. А. Залевской, «в ловушку магии слов: если нечто языковое, то оно должно адекватно передаваться языковыми средствами, которые кажутся самодостаточными, полностью поддающимися анализу и описанию с позиций соответствующей науки – лингвистики; если речь идет о сознании, то вроде бы само собой разумеется, что ничего неосознаваемого (к тому же – не вербализованного!) изначально не допускается» [2003а. С. 30]. Для того чтобы вырваться из прокрустова ложа, которое задается термином-словосочетанием «языковое сознание», необходимо, по мнению А. А. Залевской, ответить на следующие вопросы: для решения каких познавательных задач, в какой исследовательской парадигме и на какой методологической основе можно (необходимо) использовать данное понятие.
Дискуссионным остается и вопрос о том, возможно ли изучение языкового сознания в традиционной (системной) лингвистике.
На этот вопрос, как нам кажется, нельзя ответить однозначно: ответ опять же будет зависеть от того, с какой целью, для решения каких исследовательских задач используется языковое сознание как познавательный инструмент (конструкт, модель). Так, И. А. Стернин отвечает утвердительно на данный вопрос и выделяет уровень традиционного лингвистического описания языкового сознания, предполагающий «обобщенное описание значений и употреблений языковых единиц и структур в отвлечении от психологии говорящего человека и психологической реальности выполняемого описания» и противопоставленный уровню психолингвистического описания языковых фактов. Второй уровень «отражает результаты экспериментальных исследований, в частности, выполненных с помощью различных ассоциативных экспериментов и других многочисленных экспериментальных процедур» [2005. С. 143, 144].
Несмотря на признание традиционного лингвистического уровня описания языкового сознания, И. А. Стернин отмечает особое положение психолингвистики как науки, исключительным предметом исследования которой является языковое сознание человека в его психологической реальности. Под языковым сознанием понимается «совокупность психических механизмов порождения, понимания речи и хранения языка в сознании, то есть психические механизмы, обеспечивающие процесс речевой деятельности человека» [Там же. С. 144]. Данное определение языкового сознания и как феномена, и как познавательного средства полностью отвечает требованиям психолингвистического анализа языковых явлений. Традиционный лингвистический уровень описания языкового сознания, предполагающий изучение того, «что есть в языке, что уже зафиксировано в текстах, словарях и устной речи, что устоялось, определилось и является общепринятым» [Там же. С. 143], требует, на наш взгляд, уточнения или изменения в определении самого объекта – языкового сознания.
Е. Ф. Тарасов, объясняя причины возникновения в отечественной психолингвистике такого понятия, как языковое сознание, отмечает следующее: «В лингвистике содержательная сторона языковых знаков описывается при помощи понятия “значение”, которое оказывается недостаточно адекватным для описания содержания языковых единиц в речевом процессе, поэтому понятие “значение” используется в форме многочисленных модификаций: контекстуальное, коннотативное, стилистическое, узуальное, неузуальное и т. п. значение. Понятие “образ сознания”, заимствованное отечественными психолингвистами из общепсихологической теории деятельности А. Н. Леонтьева и состоящее из так называемых составляющих (образа) сознания, обладает несравнимо большими эвристическими возможностями для описания содержательной стороны речи» [2001. С. 302].
Подход к анализу содержательной стороны речевых процессов с использованием понятия «языковое сознание» является альтернативным лингвистическому подходу с его анализом при помощи значения. Языковое сознание как объект исследования появляется в рамках антропологической парадигмы в том случае, когда изучение языковых явлений не ограничивается анализом их в рамках языковой картины мира, «которая выводится из значения языковых единиц путем логико-рационального анализа текстов и словарных дефиниций» [Залев-ская, 2003б. С. 43], когда исследователь стремится описать психологическую реальность языковых феноменов, рассматривая язык как один из психических процессов, который может протекать только во взаимодействии с другими психическими процессами.
Непосредственная ненаблюдаемость сознания ставит исследователя перед проблемой формирования объекта анализа, выбора или создания новых методов и приемов обнаружения сущности языкового сознания. Знания о языковом сознании как об объекте анализа целиком зависят от средств и операций познавательной деятельности (Е. Ф. Тарасов). Однако описать содержание некоторой языковой единицы в том виде, в каком оно присутствует в сознании носителей языка, представляется недостижимым, по крайней мере при современном состоянии науки. Мы можем, по словам А. А. Залевской, лишь «строить определенные предположения, модели и подобное в отношении того, что не поддается прямому наблюдению, по-разному проявляется в экспериментах в зависимости от ряда взаимодействующих факторов и к тому же по-разному видится нам под воздействием наших теоретических “флюсов”» [Залевская, 2003а. С. 32].
Основным же методом доступа к сознанию и неосознаваемым процессам мышления является ассоциативный эксперимент, который используется в психологии, лингвистике, социологии для решения самых различных задач.
Материалом для данной статьи послужили результаты трендового исследования (2002–2012 гг.), проведенного в общеобразовательных школах, гимназиях, колледжах и лицеях Омска. Трендовый эксперимент традиционно применяется в социолингвистике и относится к диахроническим методам исследования, когда «в двух разнесенных по времени обследованиях изучаются различные, но обладающие идентичными наборами социальных характеристик индивиды» [Беликов, Крысин, 2001. С. 323].
Наш эксперимент, проведенный с интервалом в 10 лет в одних и тех же общеобразовательных заведениях одного города на репрезентативной и достаточной выборке, предоставляет уникальную возможность сравнить данные, характеризующие «использование одних и тех же языковых единиц разными поколениями того или иного сообщества» [Там же. С. 324].
Эксперимент был проведен в 2002 г. Ассоциативные поля, смоделированные по результатам эксперимента, представлены в «Ассоциативном словаре подростка» [Гуц, 2004]. Для обеспечения репрезентативности выборки (500 анкет) учитывалось соотношение общеобразовательных школ, колледжей и учебных заведений инновационного типа (гимназий, лицеев, частных школ-лабораторий), которое можно представить в виде следующей пропорции – 4 : 1 : 1. При объеме выборки 500 число анкет для школ – 334, для учебных заведений инновационного типа – 83, для колледжей – 83. Кроме того, было обеспечено равномерное распределение участников эксперимента по всем районам города.
Для того чтобы повысить валидность, т. е. «соответствие конкретного исследования принятым стандартам» [Дружинин, 2003. С. 303], мы максимально приблизили условия проведения ассоциативного эксперимента к тем условиям, которые были обеспечены при проведении массовых ассоциативных экспериментов с носителями четырех славянских языков (белорусского, болгарского, русского и украинского) и представлены в исследовании Н. В. Уфимцевой [2000]: использован тот же список стимулов (112 лексических единиц), привлечено то же количество испытуемых (500 чел.), письменная форма выполнения (каждый испытуемый получал бланк анкеты и должен был отвечать на каждый стимул первым приходящим в голову словом); анкеты генерировались методом случайных чисел, чтобы не было двух анкет с одинаковым порядком слов-стимулов, а значит, и столь распространенного в школьной аудитории списывания. Кроме того, многовариантное предъявление стимульного списка почти исключает влияние предыдущего стимула (стимулов) на состав ассоциативного поля.
В психолингвистике на основании экспериментальных ассоциативных методик сделан вывод о наличии в языковом сознании носителей языка ядра, которое «формируется из тех слов (идей, понятий, концептов) в ассоциативно-вербальной сети, которые имеют наибольшее число связей, т. е. вызваны в качестве ответов на наибольшее число стимулов» [Караулов, 2000. С. 194]. По данным эксперимента были составлены ассоциативные поля, а компьютерная обработка реакций (построение Обратного словаря) позволила выявить ядро языкового сознания подростков. Состав ядра определялся по методике А. А. Залевской [1981], разработанной ею для расчета ядра ментального лексикона и широко используемой для выявления ядра языкового сознания индивида. Из обратного ассоциативного словника были выбраны 30 слов, вызванных наибольшим количеством стимулов: человек , жизнь , деньги , хорошо , любовь , друг , дом , лох , плохо , урод , я , сила , ребенок , красивый , смерть , большой , кайф , умный , сильный , люди , много , счастье , радость , зло , время , добро , день , мир , семья , мужчина (слова представлены в порядке уменьшения показателей по шкалам «Абсолютная частота встречаемости слова в качестве реакции на все слова стимульного списка» и «Количество разных слов-стимулов, реакцией на которые является данное слово»).
В 2008 г. был проведен пилотажный эксперимент (объем выборки – 100), цель которого – установить, произошли ли изменения в ассоциативных полях ядерных слов; если произошли, то определить их характер и интенсивность. Анализ полученного ассоциативного материала позволил выявить динамику языкового сознания подростка, обусловленную в первую очередь социокультурными факторами. Качественно-количественные изменения в первых пяти реакциях (ядерных, высоко частотных) произошли в ассоциативных полях «Деньги», «Жизнь», «Любовь», «Кайф», «Зло», «Счастье». В остальных исследуемых полях установлены различия на периферии, т. е. в низкочастотных и единичных реакциях.
Третий этап трендового исследования – ассоциативный эксперимент, методика проведения которого максимально совпадает с методикой эксперимента 2002 г. Отличие только в наборе и количестве стимульных слов. На третьем этапе мы использовали в качестве стимулов только слова, зафиксированные в построенной нами модели ядра языкового сознания подростка.
Цель третьего этапа исследования – установить степень устойчивости ассоциативных полей, определить то неизменное, стереотипное, ядерное, что сохраняется в ассоциативном поле одного стимула, а значит, представлено и в языковом сознании наших респондентов.
Для сопоставительного анализа мы выбрали ассоциативные поля «Жизнь», «Счастье» и «Любовь». Из одноименных полей, смоделированных на материалах двух экспериментов (Э-1 2002 г. и Э-2 2012 г.), были выбраны одинаковые для обоих полей реакции и проведен их качественно-количественный анализ.
В таблице представлены следующие данные: общие для двух экспериментов реакции на каждый стимул (количество общих реакций сокращено, однако указано их конечное число); количество каждой реакции на соответствующий стимул для Э-1 и Э-2; количество общих реакций в каждом поле; процент общих реакций от всего количества реакций в ассоциативном поле (в полях «Жизнь» и Счастье» во всех экспериментах объем выборки – 500; в поле «Любовь» (Э-2) – 700). Необходимо отметить, что при анализе ассоциативных полей учитывались все реакции, как ядерные, высокочастотные, так и единичные.
Анализ результатов трендового исследования с использованием материалов даже трех ассоциативных полей из тридцати позволяет констатировать высокую степень
|
Жизнь |
Э-1 |
Э-2 |
Счастье |
Э-1 |
Э-2 |
Любовь |
Э1 |
Э-2 |
|
Смерть |
98 |
151 |
Радость |
184 |
109 |
Чувство |
109 |
76 |
|
Дорога |
56 |
6 |
Любовь |
66 |
63 |
Счастье |
71 |
52 |
|
Радость |
57 |
10 |
Жизнь |
43 |
9 |
Секс |
64 |
13 |
|
Жизнь |
30 |
6 |
Горе |
26 |
19 |
Сердце |
58 |
32 |
|
Кайф |
17 |
10 |
Хорошо |
4 |
11 |
Дружба |
47 |
9 |
|
Существование |
15 |
10 |
Семья |
16 |
9 |
Морковь |
22 |
19 |
|
Свобода |
2 |
13 |
Удача |
11 |
7 |
Кайф |
12 |
22 |
|
Любовь |
2 |
11 |
Деньги |
10 |
11 |
Семья |
12 |
3 |
|
Хорошо |
1 |
10 |
Здоровье |
4 |
2 |
Жизнь |
11 |
8 |
|
Путь |
3 |
8 |
Веселье |
3 |
5 |
Поцелуй |
10 |
4 |
|
Вечность |
7 |
7 |
В деньгах |
2 |
2 |
Нежность |
9 |
5 |
|
Прекрасна |
4 |
7 |
Добро |
2 |
5 |
Свадьба |
8 |
2 |
|
Долгая |
2 |
6 |
Много |
1 |
5 |
Ненависть |
7 |
7 |
|
Игра |
1 |
6 |
Смех |
2 |
4 |
Девушка |
6 |
8 |
|
Время |
6 |
5 |
Свет |
1 |
3 |
Вечность |
4 |
3 |
|
Всего 40 реакций |
365 73 % |
313 62,6 % |
Всего 18 реакций |
392 78 % |
285 57 % |
Всего 27 реакций |
486 * 69,4 % |
322 64,4 % |
При объеме выборки 700.
стереотипности ассоциаций и их устойчивость в экспериментах, проведенных с интервалом в 10 лет.
Учет всех реакций, включая единичные, позволил получить точные данные о характере ассоциирования и количестве общих для двух этапов исследования ассоциаций. Кроме того, мы можем определить характер совпадения реакций. Например, счастье → любовь : 66 и 63 (почти полное совпадение в реагировании данным ассоциатом) и жизнь → дорога : 56 и 6 (значительное расхождение в количестве данной реакции в каждом поле).
Итак, мы показали только один аспект трендового исследования – определение «констант сознания», устойчивых реакций, повторяющихся в экспериментах с интервалом в 5–10 лет, и сделали вывод о высоком проценте совпадения ассоциаций, не только ядерных, но и периферийных, низкочастотных и единичных: в исследуемых ассоциативных полях установлено совпадение от 57 до 78 %. Эти выводы еще раз подтверждают положение, выработанное в психолингвистике, о постоянстве, устойчивости ассоциативных связей элементов ядра языкового сознания в ассоциативно-вербальной сети индивида.
Другие аспекты трендового исследования – динамика языкового сознания, изменение ценностных ориентаций респондентов – безусловно, ждут своего изучения, ведь даже самые малые, незначительные изменения в структуре и наполнении ассоциативного поля оказываются достаточно значительными при исследовании языкового сознания носителей русского языка
LANGUAGE CONSCIENCE: AN EXPERIMENTAL PARADIGM (TRENDING STUDY)
Список литературы Языковое сознание: экспериментальная парадигма (трендовое исследование)
- Беликов В. И., Крысин Л. П. Социолингвистика: Учебник для вузов / Рос. гос. гуманит. ун-т. М., 2001.
- Гальперин П. Я. Языковое сознание и некоторые вопросы взаимодействия языка и мышления // Вопр. философии. 1977. № 4. С. 97-101.
- Дружинин В. Н. Экспериментальная психология. СПб.: Питер, 2003.
- Залевская А. А. О комплексном подходе к исследованию закономерностей функционирования языкового механизма человека // Психолингвистические исследования в области лексики и фонетики. Калинин, 1981. С. 28-44.
- Залевская А. А. Языковое сознание: вопросы теории // Вопр. психолингвистики. 2003а. № 1. С. 30-34.
- Залевская А. А. Языковое сознание и описательная модель языка // Методология современной лингвистики. М.; Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2003б. С. 35-49.
- Караулов Ю. Н. Показатели национального менталитета в ассоциативно-вербальной сети // Языковое сознание и образ мира: Сб. ст. / Под ред. Н. В. Уфимцевой. М., 2000. С. 191-206.
- Стернин И. А. Язык и национальное сознание // Логос. 2005. № 2 (49). С. 140-155.
- Стеценко А. П. О специфике психологического и лингвистического подходов к проблеме языкового сознания // Язык и сознание: парадоксальная рациональность. М., 1993. С. 22-34.
- Тарасов Е. Ф. Актуальные проблемы анализа языкового сознания // Языковое сознание и образ мира: Сб. ст. / Под ред. Н. В. Уфимцевой. М., 2000. С. 24-32.
- Тарасов Е. Ф. Языковое сознание и его познавательный статус // Проблемы психолингвистики: теория и эксперимент. М., 2001. С. 301-311.
- Уфимцева Н. В. Языковое сознание и образ мира славян // Языковое сознание и образ мира: Сб. ст. / Под ред. Н. В. Уфимцевой. М., 2000. С. 207-219.
- Ушакова Т. Н. Языковое сознание и принципы его исследования // Языковое сознание и образ мира: Сб. ст. / Под ред. Н. В. Уфимцевой. М., 2000. С. 13-23.