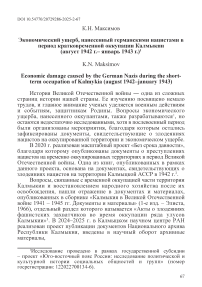Экономический ущерб, нанесенный германскими нацистами в период кратковременной оккупации Калмыкии (август 1942 г. – январь 1943 г.)
Автор: Максимов К.Н.
Журнал: Новый исторический вестник @nivestnik
Рубрика: Великая Отечественная война: к 80-летию Победы
Статья в выпуске: 2 (84), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена актуальной проблеме, не имеющей срока давности, — военным преступлениям германских нацистов на временно оккупированных территориях Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. В ней впервые комплексно освещаются уничтожение имущества, зданий, сооружений, ограбление, вывоз экономических ресурсов в Германию, творившиеся немецкими нацистами экономические бесчинства в период кратковременной оккупации Калмыкии. Хотя эта тема исследования посвящена чудовищным злодеяниям немецких оккупантов на территории отдельного региона, она раскрывается в общем контексте военных преступлений германских нацистов в годы Великой Отечественной войны на оккупированных территориях РСФСР. Источниковую базу статьи составили архивные и опубликованные документы, различные по происхождению и содержанию. Многие из них при освещении данной проблемы регионального характера впервые вводятся в научный оборот. Отдельные вопросы данной темы в местной историографии освещались лишь фрагментарно. Нацистская Германия, напав на Советский Союз, согласно запланированной экспансионистской программе тотальной молниеносной войны, ставила варварскую цель — уничтожить государство, захватить территорию, превратить в сырьевой придаток, истребить основную часть населения, остальных сделать рабами «господ арийцев». Это дает основание сказать, что действие грабежа, разрушения, вывоза экономических ресурсов РСФСР являлось одним из способов проведения немецкими фашистами геноцида советского народа, а не только обеспечением продовольствием Германии. Поэтому последствия экономической цели войны, развязанной фашистской Германией, являются тягчайшим злодеянием, военным преступлением немецких нацистов, не имеющими срока давности. Это варварство, свидетельство исторической правды о злодеяниях немецких фашистов невозможно забыть, вычеркнуть из исторической памяти. Оно должно быть предупреждением о новых угрозах возрождаемого нацизма в ряде стран Европы.
Нацистская Германия, война, оккупация, оккупационный режим, военные преступления, ограбление, разрушение, вывоз имущества, Советский Союз, РСФСР, Калмыкия, ущерб
Короткий адрес: https://sciup.org/149148353
IDR: 149148353 | DOI: 10.54770/20729286-2025-2-67
Текст научной статьи Экономический ущерб, нанесенный германскими нацистами в период кратковременной оккупации Калмыкии (август 1942 г. – январь 1943 г.)
История Великой Отечественной войны ― одна из сложных страниц истории нашей страны. Ее изучению посвящено немало трудов, и главное внимание ученых уделяется военным действиям и событиям, защитникам Родины. Вопросы экономического ущерба, нанесенного оккупантами, также разрабатываются1, но остаются недостаточно исследованными, хотя в послевоенный период были организованы мероприятия, благодаря которым остались зафиксированы документы, свидетельствующие о злодеяниях нацистов на оккупированной территории и экономическом ущербе.
В 2020 г. реализован масштабный проект «Без срока давности», благодаря которому опубликованы документы о преступлениях нацистов на временно оккупированных территориях в период Великой Отечественной войны. Одна из книг, опубликованных в рамках данного проекта, основана на документах, свидетельствующих о злодеяниях нацистов на территории Калмыцкой АССР в 1942 г.2.
Вопросы, связанные с временной оккупацией части территории Калмыкии и восстановлением народного хозяйства после их освобождения, нашли отражение в документах и материалах, опубликованных в сборнике «Калмыкия в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг. Документы и материалы» (1-е изд. – Элиста, 1966), отдельный раздел которого называется «Акты о злодеяниях фашистских захватчиков во время оккупации ряда улусов Калмыкии»3. В 2024–2025 г. в Калмыцком научном центре РАН реализован проект публикации документов Национального архива Республики Калмыкия, введены в научный оборот архивные материалы, свидетельствующие о злодеяниях нацистов и ущербе, нанесенном оккупантами хозяйству и жителям Калмыцкой АССР в 1942 г.4
Ущерб народному хозяйству Калмыкии в период Великой Отечественной войны проанализирован в монографии К.Н. Максимова5, в которой в числе многих вопросов военной истории рассматриваются временная оккупация территории республики, разграбление нацистами материальных ресурсов и последствия оккупации. Жертвам Холокоста в оккупированных нацистами районах Калмыкии посвящены работы С.Д. Таванец6 и Л.Б. Шалдановой7 (Манджиковой). Проблема экономического ущерба рассматривалась в работах З.И. Гаряевой (Согдановой)8.
В настоящей статье исследуются вопросы оценки экономического ущерба, нанесенного хозяйству Калмыцкой АССР в период временной оккупации ее территории во время Великой Отечественной войны.
Нацистская Германия задолго до начала войны, готовя нападение на Советский Союз, определила не только политическую цель – разгромить армию, уничтожить Советский Союз, как государство, расширить за счет его территорий немецкое «жизненное пространство», сократить и поработить его народы, но и экономическую – захватить экономические и сырьевые ресурсы, превратить Россию в аграрносырьевой придаток, колонию. 3 февраля 1933 г. Гитлер, только что вступив в должность рейхсканцлера Германии, в обращении к высшему командованию вермахта, изложив цели завоевания, объявил, что политическая власть фюрера будет использована для следующего: «захват нового жизненного пространства на Востоке и его безжалостная германизация. Ясно, что только с помощью политической власти и борьбы могут быть изменены экономические условия. Всё, что сейчас возможно, это колонизация, в ней – выход из положения»9.
При принятии Гитлером директивы № 21 плана «Барбаросса» (18 декабря 1940 г.) нападения и захвата СССР конкретно ставились две цели. При обсуждении деталей этого плана начальник штаба сухопутных войск «Ф. Гальдер задал вопрос начальнику штаба оперативного руководства верховного командования вооруженных сил Германии А. Йодлю:
– Хотим ли мы разбить противника или мы просто преследуем экономические цели? А. Йодль ответил:
– Фюрер считает возможным и то, и другое …»10.
В инструкции от 13 марта 1941 г. об особых областях к директиве № 21 (вариант «Барбаросса») уже конкретно определялась экономическая цель войны – «эксплуатация страны и использование её хозяйственных ресурсов для нужд германского хозяйства … По вопросу о едином руководстве хозяйственным управлением на театре военных действий и в политически управляемых областях фюрер уполномочил рейхсмаршала, который возложил эти задачи на начальника управления военной экономики и вооружения верховного командования вооруженных сил. Особые инструкции об этом будут изданы этим управлением»11.
Поэтому целью совещания в штабе ОКВ (Верховного германского командования вооруженных сил) с представителями видов вооруженных сил, состоявшегося 29 апреля 1941 г., являлось рассмотрение организационной структуры хозяйственного раздела операции «Барбаросса» – «Ольденбург» (кодовое название), созданного в марте 1941 г. Согласно вышеназванной инструкции, рейхсмаршалу и экономическому главному штабу подчинялся хозяйственный штаб особого назначения «Ольденбург» (руководитель генерал-майор Шуберт, бывший военный атташе Германии в Москве) с региональными хозяйственными инспекциями и хозяйственными командами. Территориальные хозяйственные инспекции создавались при командующем группы армий, при армиях в районе боевых действий хозяйственные вопросы возлагались на офицера связи управления военной экономики и вооружения ОКВ, которому придавался технический батальон и подразделения, предназначенные для выявления и вывоза сырья, нефти, сельскохозяйственных машин, в особенности тракторов и станков. Уполномоченным главного штаба по продовольствию и сельскому хозяйству был назначен статс-секретарь одноименного имперского министерства Герберт Бакке12.
Согласно этой гитлеровской структуре порядка ограбления, оккупированная территория Калмыкии подпадала под действие третьей хозяйственной инспекции в район боевых действий 6-й полевой армии Ф. Паулюса и хозяйственной команды 16-й моторизованной дивизии, ведущей боевые действия в калмыцких степях на астраханском направлении. Конкретными исполнителями при военных комендатурах являлись хозяйственные группы.
Буквально через два дня (2 мая 1941г.) на совещании членов экономического штаба «Ольденбург» утверждалось: «1) Продолжать войну можно будет лишь в том случае, если все вооруженные силы Германии на третьем году войны будут снабжаться продовольствием за счет России. 2) При этом, несомненно: если мы сумеем выкачать из страны все, что нам необходимо, то десятки миллионов людей обречены на голод. 3) Наиболее важен сбор и вывоз урожая масличных культур и приготовленных из них продуктов питания; лишь на втором месте злаковые. Жиры, мясо, видимо, пойдут на продовольственное обеспечение войск. 4) Из промышленных предприятий можно будет восстановить только такие, которые производят дефицитную продукцию…”13.
Всвязис этими задачамибылаподготовлена и принята«Директива по экономической политике для Экономической организации «ОСТ», группы «Сельское хозяйство»» (23 мая 1941 г.). В ней обстоятельно было проанализировано состояние экономики, ресурсов России, определены планы и задачи её ограбления. В частности, проблему мяса для Германии намечалось решить «путем активного изъятия скота из России», а также завоза рыбной продукции, технических, масличных культур, зерна. Ставилась минимальная цель – «на третьем году войны полностью освободить Германию от снабжения собственных вооруженных сил …»14.
План «Барбаросса» – «Ольденбург» получил свое дальнейшее развитие в так называемых «Директивах по руководству экономикой во вновь оккупируемых восточных областях» («Зеленая папка») «Восточного штаба экономического руководства» (руководитель статс-секретарь Кернер). Эти документы, разработанные и секретно изданные перед нападением на СССР, представляли директивы Геринга по экономическому разграблению оккупированных территорий России. «Зеленая папка» предназначалась для ориентации военного командования и военно-хозяйственных инстанций в области экономических задач в подлежащих оккупации восточных областях. В ней ставились главные экономические задачи, связанные с необходимостью улучшения германской военной экономики и продовольственного снабжения населения Германии. «Согласно приказу фюрера, необходимо принять все меры к немедленному и полному использованию оккупированных областей в интересах Германии… ПолучитьдляГерманиикакможнобольшепродовольствия и нефти – такова главная экономическая цель кампании … В области продовольственного снабжения на первом месте стоит добыча зерна и масличных культу. Все мероприятия для этого следует рассчитать на долгий срок… при этом предусмотреть понижение потребления местного населения»15.
Один из участников подготовки плана «Барбаросса» и его реализации Ф. Паулюс на Нюрнбергском процессе говорил, что «экономический захват линии Волга – Архангельск означал бы обладание важнейшими источниками продовольственного снабжения, важнейшими полезными ископаемыми, включая нефтяные источники Кавказа, а также важнейшими промышленными центрами России … Для эксплуатации и администрирования захваченных территорий все экономические и административные организации и учреждения были созданы ещё до начала войны»16.
Как видим, германские фашисты ещё задолго до нападения на Советский Союз подготовили план военной агрессии против него в сопутствующих деталях, в том числе массовое расхищение и ограбление имущества. Для этой цели были созданы военные и административные структуры в виде центрального учреждения, инспекций, отрядов, групп и т. д., а также изданы специальные планы, инструкции, указания, подготовлены кадры для ограбления оккупированных территорий.
Заместитель Главного обвинителя от США С. Олдерман, выступая на Нюрнбергском процессе, предельно ясно раскрывал экономические мотивы нападения фашистской Германии на СССР. Он говорил, что «нацисты до нападения вели подготовку грабежа жертвы … максимального использования того, что им удастся награбить в ходе своей агрессии … Они не только планировали предпринять беспричинное нападение на соседа, которому давали гарантии, но также намеривались лишить этого соседа пищи, заводов и всех средств к существованию … эти люди планировали грабеж, будучи совершенно уверенными в том, что его осуществление неизбежно повлечет разрушения и голод миллионов людей Советского Союза»17.
Со второй половины 1942 г. Калмыцкая АССР, как оккупационный объект германских фашистов, согласно розенбергскому меморандуму от 2 апреля 1941 г., где ставилась задача «обеспечить важное для ведения войны снабжение империи со всех оккупированных территорий»18, оказалась во власти нацистских военных преступников. Тем более с провалом блицкрига, авантюрным летним наступлением на расходящемся широком фронте протяженностью шириной свыше 4 тыс. км у гитлеровцев появились серьезные проблемы со снабжением армии, а также обострилось положение с продовольствием в самой Германии.
На совещании 6 августа 1942 г. рейхсмаршалу Герингу гаулейтеры в один голос заявили, что немецкому народу не хватает еды. Геринг им ответил: «В настоящий момент Германия владеет от Атлантики до Волги и Кавказа самыми плодородными землями, какие только вообще имелись в Европе; страна за страной, одна богаче и плодородней другой, завоеваны нашими войсками». Перечислив завоеванные страны, продолжал: «Потом идет Россия, … излучина Дона с её неслыханно плодородными и лишь незначительно разрушенными областями. теперь наши войска оккупировали частично или полностью все плодородные области между Доном и Кавказом…». «Боже мой! Вы посланы туда не для того, чтобы работать на благосостояние вверенных вам народов, а для того, чтобы выкачать всё возможное с тем, чтобы мог жить немецкий народ. Этого я ожидаю от вас… Я сделаю одно: я заставлю выполнить все поставки, которые я на вас возлагал …»19.
Далее рейхсмаршал, заслушав доклады гаулейтеров, поставил задачу непременно улучшить снабжение продовольствием германского народа. В связи с этим планировалось завезти из России: 3 млн тонн зерна (вдвое больше, чем из других оккупированных государств), 120 тысяч тонн растительного масла, а также мяса, жиров, картофеля, сахара, спирта и прочие. Здесь же предлагалось срочно принять меры по завозу в Германию продовольствия к новогодним праздникам, создать все необходимые солдатам условия для личного вывоза продовольствия, вещей, сколько каждый в отдельности может взять с собой.
На этом же совещании было принято решение ограничить поставки армии из Германии овса, прекратить поставки сена и соломы, и обеспечивать её фуражом из оккупированных территорий. Хлебом, мясом и жирами армия должна была снабжать себя за счет захваченных областей. Совещание предложило поставлять из Германии армии лишь дополнительные продукты (кофе, шоколад и др.)20.
Все предложения этого совещания получили нормативное оформление. По распоряжению фюрера начальник штаба вермахта А. Йодль 29 августа 1942 г. издал приказ, гласивший, что вооруженные силы должны, насколько это возможно, внести вклад в дело обеспечения продовольственного снабжения германского народа. Армия должна заботиться не только о своем обеспечении продовольствием из оккупированных областей, но и заготавливать и доставлять в империю массу продуктов21. Вот такие проблемы и задачи стояли перед нацистскими войсками и в период оккупации Калмыкии, которые гласили так: «Немецкое народное питание в эти годы стоит, несомненно, во главе германских требований на Востоке, и в этом отношении южные области и Северного Кавказа должны будут послужить для выравнивания немецкого продовольственного положения…»22.
Функции продовольственного обеспечения немецких воинских частей 52-го армейского корпуса, а затем 16-й мотодивизии на оккупированной территории Калмыкии выполняли их хозяйственные группы совместно с военными комендатурами, привлекая созданные профашистские структуры гражданского управления. С целью организованного ограбления командование 16-й мотодивизии, оккупировав часть территории Калмыкии, в помощь своей хозяйственной службе, комендатуре создало вспомогательные органы – городское управление с отраслевыми отделами, в селах – сельские управления. Основными отраслевыми структурами, обеспечивающими оккупационные войска врага всем необходимым, являлись земельный, хозяйственный, строительный, финансовый отделы.
В первые же дни вторжения фашистские захватчики организовали во всех хозяйствах в городе Элисте, пригороде, колхозах, совхозах, на предприятиях оккупированных улусов учет наличия продукции на складах, в амбарах, бригадах, на токах, в скирдах (в центнерах), сена, соломы и прочих кормов. Гитлеровцы брали на учет скот, сельскохозяйственную продукцию, сырье и т. п. не только на оккупированной территории, но и, проводя разведку в незахваченных районах, собирали данные об имеющихся в них имуществе, запасах продовольствия, фуража, сырья. Так, командование советской 34-й гвардейской стрелковой дивизии 28-й армии 26 сентября 1942 г. сообщало Калмыцкому обкому ВКП(б): «Нашей разведкой установлено: в районе Черных земель, совхозов «Улан Туг», «Улан Малч», «Улан Хеечи» и других находятся большие запасы шерсти, зерна до 200 тонн, которые немецкие разведчики маркируют и берут на учет»23.
Оккупанты, видимо, действовали в соответствии с «Памяткой для ведения хозяйства в завоеванных восточных районах и областях», изданной германским командованием. В ней указывалось: «Завоеванные восточные области являются германской хозяйственной территорией. Земля, весь живой и мертвый инвентарь – являются собственностью германского государства»24. По всей вероятности, немецкие разведчики действовали по указанию начальника (офицера) хозяйственной группы военной комендатуры. Его задачей являлось организация обеспечения дивизии продовольствием, а также вывоза в Германию.
По указанию элистинской немецкой военной комендатуры всё население оккупированных улусов должно было собрать и сдать все колхозное и государственное имущество, взятое во время эвакуации. В случае невыполнения и сокрытия его предусматривался расстрел. 9 сентября 1942 г. последовал приказ за подписями городского головы Н.П. Трубы и начальника земельного отдела Н.Г. Корниенко, обязывавший всех руководителей хозяйств восстановить имущество колхозов и совхозов, вплоть до изъятия у колхозников, рабочих излишков скота. Приказывалось также своевременно и организованно, существующим до сего времени порядком (коллективно) провести хлебоуборку. При этом немцы запретили оплачивать труд колхозников, то есть выдавать трудодни в натуральном выражении (зерном) якобы до полного завершения полевых работ (уборки, обмолота, сева озимых и др.)25.
Кроме того, в первые же дни оккупации гитлеровцы под видом якобы необходимости сохранения поголовья животноводства категорически запретили убой общественного (сельхозтовариществ) и частного скота. В приказе по земельному отделу от 13 ноября 1942 г. отмечалось: «На основании указания комендатуры приказываю: 1. Старостам сельскохозяйственных товариществ впредь категорически запретить убой общественного скота на питание. 2. Убой скота индивидуального пользования производить только согласно письменного разрешения сельских старост. Нарушители настоящего приказа будут нести ответственность перед комендатурой». Приказ подписал начальник земельного отдела Н.Г. Корниенко26.
Такая «забота» объяснялась, конечно, не стремлением обеспечить сохранность поголовья скота Калмыкии, а необходимостью строгого учета и контроля за всеми ресурсами колхозов и индивидуальных хозяйств с целью продовольственного снабжения своей армии, вывоза скота в Германию.
На оккупированной территории Калмыкии располагался значительный контингент вражеских войск. 16-я мотодивизия, личный состав которой составлял 14 029 человек, имела авиационную группу с наземными службами обеспечения, два казачьих полка (командиры – подполковник И. фон Юнгшульц (в его полку 1 530 человек, в том числе 30 офицеров и 150 унтер-офицеров) и С.В. Павлов), мусульмано-магометанский легион (три батальона численностью 2 731 человек) и «Запорожский легион» (около 800 человек)27. Кроме того, дивизии были приданы службы абвера, гестапо, готовый состав военных комендатур и хозяйств, пропаганды и др. Тем самым дивизия с вспомогательными службами, коллаборационистскими подразделениями по численности представляла более полуторное соединение.
Помимо этой дивизии, на западно-северной оккупированной части республики дислоцировались войска 4-й румынской армии, немецкой 4-й танковой армии и др. Так что потребность в продовольствии этой огромной массы вражеской армии была весьма значительна. Только в одном селе Плодовитом Малодербетовского улуса, где с 5 августа по 22 ноября 1942 г. находились немецкие и румынские воинские части, на продовольствие они забили 1 190 крупного рогатого скота, 2 853 овцы, 627 свиней, 9 тысяч птиц двух колхозов и личных хозяйств колхозников. По имеющимся неполным учтенным данным, немецкие и румынские оккупанты в Малодербетовском, Сарпинском и Кетченеровском улусах на свои продовольственные нужды ограбили у хозяйств и тружеников села 15 тысяч голов крупного рогатого скота, 118 тысяч овец, более 4 тысяч свиней, 36 тысяч домашних птиц. Кроме этого, они забрали 2360 лошадей и 287 верблюдов28. Это только употребленное ими мясо, не считая хлеба, молока, масла, яиц, фруктов и овощей.
На питание личного состава штаба 16-й мотодивизии, военной комендатуры, структур гестапо, абвера, охраны, пропаганды и других, находившихся только в Элисте, ежедневно забивали до 50 голов крупного рогатого скота, более сотни овец, перерабатывали до 8 тонн зерна на муку. Помимо этого, каждый день в военную комендатуру пригородные хозяйства поставляли до 4 гусей или 10 кур, муку, молоко и другие продукты. 21 сентября 1942 г. по распоряжению земотдела сельхозтоварищество № 3 (бывший колхоз им. Сталина, староста П. Е. Фрольцев) доставило команде абвера Долла 2 мешка картофеля, 40 кг капусты, 10 кг лука, 1 мешок пшеничной муки. А сельхозтовариществу № 4 (бывший колхоз им. Молотова, староста А. К. Долин) предписывалось срочно доставить 6 сентября на элистинскую бойню 50 голов гуленого крупного рогатого скота и отвезти на мельницу 1400 кг ржи. В письме от 10 ноября 1942 г. на имя старосты П. Фрольцева за подписью начальника отдела городского хозяйства Лобачева и ветфельдшера земотдела Сенокосова предписывалось: «По приказанию сельхозкоменданта пригнать к 9 часам 11 ноября 1942 г. 20 голов крупного рогатого скота, пригодного к убою. За промедление несете ответственность как срывщики снабжения германской армии»29.
Немецкая военная комендатура в Элисте особую заботу проявляла снабжению офицеров и солдат молоком. Городское управление, исполняя указание коменданта, 5 октября 1942 г. издало распоряжение, вводящее в Элисте, селах Троицком, Вознесеновке, Бурате, Лоле и пригородных колхозах обязательные нормы для всех граждан независимо от национальностей сдачи молока жирностью не менее 3,9 % в виде натурального налога безвозмездно. Однако следует заметить следующее. Вопреки утверждению в «Записке НКВД СССР в ГКО о выявлении и ликвидации шпионов, диверсантов, немецких пособников и банд в городах и районах, освобожденных Красной армией от войск противника» от 18 марта 1943 г., подписанной заместителем наркома внутренних дел В. Н. Меркуловым, о том, что «калмыцкое население было освобождено от налогов молоком, яйцами, мясом»30, нигде в первоисточниках о налогах не говорится о предоставлении льгот какой-либо национальности. В распоряжении горуправы, опубликованном в пронацистской газете «Свободная земля» № 15 от 8 октября 1942 г., указывалось, что для обеспечения немецкой армии молоком «каждый владелец дойной коровы обязан сдать на приемный пункт молоко: за октябрь – 25 л, ноябрь и декабрь – по 20 л в месяц; владельцы яловых коров-передоек обязаны сдать: за октябрь – 15 л, ноябрь и декабрь – по 10 л в месяц»31. Постоянное наблюдение за своевременной и полной сдачей молока возлагалось на земельный отдел и участковых старост.
ФашистыввеливоккупированныхулусахКалмыкииизощренный вид ограбления населения, занимающегося животноводством, установив так называемый подоходный налог, а по сути подушный. Определялась фиксированная сумма в год с человека, в зависимости от количества скота в личном подворье, сельскохозяйственном товариществе, в котором работал он или члены семьи. Считая, что в общинном хозяйстве все имущество, скот и посевные площади якобы являются «общим достоянием», выводили из этого среднее количество поголовье скота, посевной площади на каждого члена общины в возрасте от 16 до 60 лет.
Элистинское горуправление извещало о том, что в соответствии с постановлением главнокомандующего германской армии «О предварительном взимании налогов и сборов» от 23 октября 1941 г. «на территории города Элисты и хуторов, расположенных в городской черте, вводится подоходный налог» с граждан трудоспособных в возрасте от 16 до 60 лет, входящих в состав семьи бывшего колхозного хозяйства и занятых сельским хозяйством. Налоги определялись, исходя из количества животных и размера посевных площадей, в следующем порядке: лошадь или верблюд от 3 лет и старше – 700 руб., корова – 1200 руб., коза или овца – 100 руб., свинья – 400 руб., вол или бык – 400 руб., посевы зерновых 1 га – 3 800 руб., посевы табака 1 га – 1 700 руб., огороды, бахчи 1 га – 3 800 руб., сады, ягодники 1 га – 4 200 руб. Окончательные расчеты по налогам должны были производиться в два этапа: 27 октября и 20 ноября 1942 г. Контроль за правильным и своевременным взиманием возлагался на финансовый отдел. Во всех оккупированных селах немцами были введены аналогичные налоги. Жители, не имевшие возможность внести деньгами, обязаны были сдавать натуральный налог – молоко, мясо, масло, яйца, домашние птицы, вплоть до одежды, кожсырья32.
Одной из основных задач экономического ограбления оккупированных улусов являлся сбор и вывоз продовольствия в Германию, немцы испытывали серьезные трудности в таре. Поэтому полицейским службам, старостам сел вменялся в обязанность сбор тары для германской армии, в том числе и мешков. Так, приказ по городскому управлению от 17 октября 1942 г., подписанный обоими головами – Трубой и Цуглиновым, гласил: «В связи с имеющимся требованием военной комендатуры города Элисты в мешковой таре приказываю: 1. Всем уполномоченным города Элисты, а также прилегающих поселков срочно приступить к сбору мешковой тары среди населения города и поселков, т. е. с каждого хозяйства по 2 мешка. 2. Уполномоченным колхозов, имеющим в наличии мешковую тару, срочно представить [её] в распоряжение городской комендатуры (земельный отдел). 3. Всю мешковую тару собрать в 3-дневный срок, т. е. до 20 октября с. г., и представить в военную комендатуру (земельный отдел)»33. В этих мешках оккупанты отправляли зерно, муку в Германию. Они с помощью полицейских усиленно во всех хозяйствах, селах выявляли и забирали зерно и под своим надзором организовывали его помол. А перед отступлением все ветряные и механические мельницы разрушили.
Фельдмаршал Эрих фон Манштейн, откровенно признаваясь в грабежах фашистской армии, все же несколько лукавил. По его словам, с советских оккупированных территорий для нужд военного производства вывозились машины, цветной металл, зерно, технические культуры, лошади и скот. Но «о разграблении этих областей, естественно, не могло быть и речи. В немецкой армии – противовес остальным – грабеж не допускался … вывезенное нами с заводов, складов, из совхозов, колхозов и т. п. имущество или запасы между прочим представляли государственную собственность»34. Как видим, фельдмаршал, понимая невозможность никакими словами скрыть грабительскую политику нацистов, пытался ее оправдать тем, что они не трогали частную собственность. Однако, как известно, в Советском Союзе по Конституции она не допускалась, а была только социалистическая собственность, в форме государственной либо кооперативно-колхозной. Наиболее достоверные результаты грабежа временно захваченных территорий СССР показали немецкие историки Норберт Мюллер и Рольф-Дитер Мюллер. «В 1942 г., – писал Н. Мюллер, – в Германию прибыли более 3 тыс. эшелонов с продовольствием из оккупированных областей СССР35. В 1942 г. фашистская армия, по признанию Р-Д. Мюллера, примерно на 80 % обеспечивалась продовольствием за счет оккупированных территорий СССР, а привезенные продукты из России позволили существенно увеличить пищевые рационы германского населения. Далее он отмечал, что положение в области сырья также значительно облегчилось. В 1943–1944 гг. из СССР было вывезено более 5 млн тонн захваченного сырья и около 250 тысяч железнодорожных вагонов «эвакуационных грузов»36. Несомненно, в этих эшелонах находились продукты сельского хозяйства, награбленные и в Калмыкии.
Фашистские оккупанты, хищнически грабя республику, пытались создавать иллюзию о том, что они заботятся о сохранении животноводства для населения. Так, по распоряжению немецкой военной комендатуры и городской управы староста сельхозтоварищества № 1 Л.Г. Яковенко в октябре–ноябре 1942 г. под видом на зимовку перегнал 14 тыс. овец в совхоз № 19 (немецкое название – госимение № 19) Ростовской области. 7 ноября 1942 г. начальник земельного отдела Н.Г. Корниенко дал указание старосте сельхозтоварищества № 4 А.К. Долину к 10 ноября подготовить и представить акт на отправку скота для зимовки в Ремонтненский район Ростовской области, предусмотрев кормовой баланс, что и было им выполнено. Зачем понадобилось перегонять скот в соседний район на зимовку со своим запасом кормов? Здесь явно преследовалась иная цель. В конце декабря 1942 г. в ходе отступления гитлеровцев на территории Ремонтненского и Заветненского районов были обнаружены 7,5 тыс. голов скота Калмыцкой АССР37. Можно с уверенностью утверждать, что поголовье скота перегонялось в сторону железнодорожной станции Зимовники для отправки в Германию, или, возможно, на продовольственные нужды воинских частей из группы армий «Дон» генерал-фельдмаршала Э. Манштейна и 4-й танковой армии, стремившихся к деблокированию 6-й армии Ф. Паулюса в окруженном Сталинграде. Не исключено, что готовился продовольственный запас с целью доставки обреченной этой же армии в Сталинграде.
Хотя оккупационные власти вели постоянный учет количества взятых сельскохозяйственных продуктов, скота, сырья, к сожалению, в имеющихся документах пронацистских учреждений не удалось обнаружить общие сведения. Однако сохранившиеся письма, некоторые документы на немецком языке свидетельствуют о насильственной реквизиции имущества, продовольствия и об их учете в военных комендатурах. Одним из таких документов является, по всей вероятности, последнее ноябрьское 1942 г. письмо земотдела старостам сел, на территории которых находились сельхозтоварищества. Так, в письме земотдела от 14 ноября старосте А. К. Долину предписывалось «срочно представить по заданию военного коменданта сведения о сдаче германской армии скота по видам и возрастам, шерсти, кожи, мяса, птицы, а также имеющиеся у вас документы на немецком языке»38. Последняя строка связывалась, вероятно, с желанием изъять непосредственно исходившие от военной комендатуры документы, свидетельствовавшие о грабежах, в связи с предчувствием приближающегося краха под Сталинградом. Немецкие военные комендатуры, требуя данные о реквизированном скоте, иногда это поручение мотивировали желанием якобы рассчитаться с хозяйствами. Фактически же никакой оплаты не производилось.
За период кратковременной оккупации и отступления германские фашисты нанесли Калмыцкой АССР колоссальный ущерб, серьезно подорвали её экономику, разрушили объекты социальнокультурной инфраструктуры. После изгнания немецких захватчиков правительство Калмыцкой АССР с целью определения состояния республики, итогов разрушительных и грабительских действий фашистских варваров в срочном порядке 3 января 1943 г. образовало Республиканскую Чрезвычайную государственную комиссию по установлению и расследованию злодеяний нацистов и причиненного ими ущерба гражданам, колхозам, общественным организациям, государственным предприятиям и учреждениям Калмыцкой АССР (председатель О. М. Ностаев, председатель Президиума Верховного Совета КАССР). Чрезвычайная комиссия уже 9 января провела первое заседание и приняла план работы, предложила улусным комиссиям завершить работу по сбору сведений, материалов о понесенных ущербах к 1 февралю 1943 г.39.
В результате фашистской оккупации народное хозяйство республики оказалось в катастрофическом состоянии. К началу 1943 г. основательно была подорвана ее экономика. Из 176 колхозов немцы разграбили 118, разрушили 24, из 12 совхозов и одного конезавода пострадали все, из 17 МТС в восстановлении нуждались 14 и все 12 мастерские. В колхозах и совхозах Калмыкии к январю 1943 г. числилось 313 704 головы скота (22 % общего поголовья на 1 августа 1942 г., т. е. до оккупации). В аналогичном положении после оккупации находилось, по данным Сельскохозяйственного отдела ЦК ВКП(б), и животноводство колхозов и совхозов Ставропольского края (из 1 759 296 голов осталось всего 387 469, или 22 %). Но, по заключению того же отдела, у сельского населения Ставрополья за период оккупации поголовье скота не только не уменьшилось, а, наоборот, заметно увеличилось. У населения Калмыкии поголовье скота сократилось вдвое. Если к середине 1942 г. 341 50 колхозных семей Калмыцкой АССР имели 72 483 крупного рогатого скота и 27 940 голов приплода, овец 82 850 и 47 890 голов приплода, 8 439 лошадей, 3 292 свиньи, то после освобождения от оккупации на 1 января 1943 г. осталось у них 58 934 (58,7 %) крупного рогатого скота, 38 650 (29,6 %) овец и коз, 3 216 (38,1 %) лошадей, 2 377 свиней (72,2 %)40.
За период оккупации части территории Калмыкии немцы разграбили и уничтожили не только ее животноводство, но и материально-техническую базу колхозов и совхозов. Несмотря на поспешное отступление, оккупанты успели привести в негодность почти одну треть тракторов МТС и совхозов. Калмыцкая АССР в этом отношении пострадала в одинаковой мере со своими соседними краями и областями от фашистских захватчиков. Так, после освобождения по состоянию на 1 июля 1943 г. осталось тракторов в Калмыцкой АССР – 61,5 % (на 1 марта – 58,3 %), Кабардино-Балкарской АССР – 67,5 %, Краснодарском крае – 72,1 %, Ставропольском крае – 65,5 %, Ростовской области – 71,2 %, Сталинградской области – 84,7 %41.
Накануне эвакуации в МТС и совхозах республики в исправном состоянии находились 115 автомобилей, а после ее освобождения у них осталось 32 автомашины (27,8 %). В названных выше краях и областях 121 район (30,7 %) не имел ни одного автомобиля, а в Калмыцкой АССР два улуса оказались без единой машины; с 1–2 остались 100 районов (25,4 %), из них в Калмыкии – 4 улуса; имели 3–4 автомобиля – 90 районов (23 %), из них 5 улусов в КАССР; 5 автомобилей – 82 района (20,8 %), из них 1 улус в КАССР42.
К моменту освобождения оккупированной территории около двух третей (53) наиболее значимых промышленных предприятий республики лежали в развалинах, резко упало производство промышленной продукции, уменьшилось рабочих не только в связи с призывом на фронт, но и в результате сокращения количества промышленных предприятий, за исключением рыбоперерабатывающих (находились в неоккупированном улусе). Калмыцкая АССР почти в равной степени пострадала вместе с другими регионами от фашистских оккупантов. В Калмыцкой АССР после освобождения осталось действующих предприятий – 36,6 %, в них рабочих от довоенного уровня – 23,6 %, в Кабардино-Балкарской – 12,7 % (рабочих – 22,9 %), в Краснодарском крае – 11,6 % (рабочих – 21,5 %), в Ставропольском крае – 17,2 % (рабочих –28,5 %), в Ростовской области – 20,9 % (рабочих – 15,7 %), в Сталинградской области – 27,7 % (рабочих – 27,8 %)43.
В сентябре 1943 г. Калмыцкий обком партии и правительство КАССР к февральскому и июльскому докладам дополнительно представили секретарю ЦК ВКП(б) Маленкову Г.М. и заместителю председателя СНК СССР Микояну А. И. сведения о состоянии народного хозяйства Калмыцкой АССР после освобождения от немецко-фашистских оккупантов. В последней секретной докладной сообщалось о завершении работы в республике по определению ущерба, причиненного народному хозяйству в связи с оккупацией, во время отступления, разбойничьими действиями немецко-фашистских оккупантов и их сообщников. В ней приводились данные о размере ущерба в народном хозяйстве Калмыцкой АССР. Отмечалось, что германские фашисты нанесли огромный урон материальнотехнической базе народного хозяйства, фактически уничтожили социальную инфраструктуру республики. Они разрушили, сожгли 2 648 производственных зданий, 1 828 жилых домов, 401 здание торгово-бытового назначения, 3 121 здание учреждений культуры, образования, здравоохранения, органов власти и управления, 27 ветряных и 7 механических мельниц, 4 электростанции и др. МТС, совхозы, предприятия, организации республики лишились за время оккупации 271 машины, 504 трактора, 209 комбайнов, 16 632 сельскохозяйственного инвентаря44.
Общее количество скота, потерянного при эвакуации, потребленного оккупантами на продовольственные нужды, вывезенного в Германию и угнанного при отступлении, составило 870 318 голов всех категорий хозяйств, птиц – 97 166 штук, зерна – 91 649 ц, картофеля – 860,3 ц, сена – 135 905,3 ц, шерсти – 1 223 ц, кожсырья – 35 265 штук. В населенных пунктах, на фермах, чабанских стоянках гитлеровцы разрушили 611 колодцев, 15 ветряных и 6
механических мельниц, более 70 магазинов, 18 пекарен, 136 складов45. Нацисты всё то, что не смогли забрать с собой, разрушили, подожгли, выполняя преступное приказание Гитлера о «выжженной земле», варварски уничтожили.
Таким образом, фашистская Германия, начав войну с Россией, по заранее заготовленному сценарию стала создавать и насаждать на оккупированных территориях полевые военные комендатуры со службами гестапо, полиции, абвера, и систему местного гражданского управления из коллаборационистов. Согласно этой схеме оккупационной военной власти с террористическим режимом, в августе 1942 г. командование 16-й мотодивизии возложило обязанностей военного коменданта на майора Риттера и начальника гарнизона на генерала Гопри. Вся военная власть на оккупированной территории Калмыкии, согласно инструкции верховного главнокомандования вооруженных сил Германии, принадлежала командиру 16-й мотодивизии генерал-лейтенанту З. Хейнрици (в ноябре его сменил генерал-майор Г. Шверин) и его штабу, расположенному в Элисте. Главной задачей всей этой нацистской военной и административной службы являлось обеспечить достижение цели войны – провести расовую чистку, сократить население России, выкачать её богатство, обеспечить немецкое население и армию продовольствием, расширить «жизненное пространство на Востоке». Калмыцкие степи явились самой восточной полевой позицией германского вермахта в период Великой Отечественной войны, где многие тысячи немецких нацистов нашли личное «посмертное пространство».
Изучая архивные документы более 80-летней давности о военных преступлениях немцев против мирного населения России, следя за современными событиями, происходящими на театре военных действий, геополитическом пространстве Европы, убеждаемся в том, что украинские националисты, повторяя «роковые» (по признанию самих гитлеровских генералов) решения немецких националистов, не учитывают или запамятовали уроков Нюрнбергского процесса. Творимые ныне военные преступления украинскими националистами во время специальной военной операции против мирного населения Украины, России по всем признакам и признанию Международным трибуналом в Нюрнберге уголовным деянием не имеют срока давности.