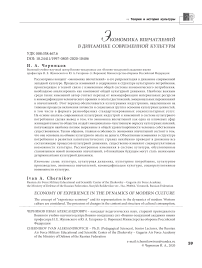Экономика впечатлений в динамике современной культуры
Автор: Черников Иван Александрович
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 4 (96), 2020 года.
Бесплатный доступ
Рассмотрены концепт «экономика впечатлений» и его репрезентация в динамике современной западной культуре. Процессы изменений в содержании и структуре культурного потребления, происходящие в тесной связи с изменением общей системы экономического потребления, необходимо анализировать как компонент общей культурной динамики. Наиболее важным среди таких изменений автор считает переход от коммодификации материальных ресурсов к коммодификации человеческого времени и опыта (достижений, эмоциональных переживаний и впечатлений). Этот переход обеспечивается культурными индустриями, нацеленными на типовые процессы включения личности и социальных групп в освоение культурных ценностей, в том числе в формате разнообразных стандартизированных социокультурных услуг. На основе анализа современных культурных индустрий и изменений в системе культурного потребления сделан вывод о том, что экономика впечатлений как одна из ключевых сфер жизнедеятельности общества создаёт эмоционально-чувственную окраску культурных явлений, получающую наиболее полное выражение в общей удовлетворённости человека собственным существованием. Таким образом, главная особенность экономики впечатлений состоит в том, что она основана на обмене культурного опыта на деньги. Объективные изменения в структуре потребления в развитых капиталистических странах неизбежно приводят в движение все составляющие процессов культурной динамики, существенно изменяют социорегулятивные возможности культуры. Рассмотренные изменения в системе культуры, обусловленные становлением новой экономики впечатлений, в ближайшем будущем могут стать значимыми детерминантами культурной динамики.
Культура, культурная динамика, культурное потребление, культурное производство, экономика впечатлений, коммодификация культуры, социорегулятивные возможности культуры
Короткий адрес: https://sciup.org/144161381
IDR: 144161381 | УДК: 008:338.467.6 | DOI: 10.24412/1997-0803-2020-10406
Текст научной статьи Экономика впечатлений в динамике современной культуры
В начале XXI века произошёл фундаментальный сдвиг в мировой экономике, и теперь она постепенно из экономики вещного потребления переходит в состояние, в котором основные экономические эффекты определяются стремлением людей к получению впечатлений, ярких эмоций и положительных переживаний. В этой системе экономическая ценность производимых продуктов и услуг в некоторых случаях становится менее важной, чем их культурная значимость.
Задача данной статьи состоит в том, чтобы выделить малозаметные изменения в системе культуры, обусловленные становлением новой экономической реальности, которые в ближайшем будущем могут стать детерминантами культурной динамики. Эта задача требует взглянуть на культуру «не в качестве продукта уже свершившейся деятельности (осуществлённой культуры)», а как на ещё совершающийся культурный процесс [9].
Развивая эту мысль, видный отечественный культуролог А. Я. Флиер отмечает, что «доминантным исследовательским интересом наук о культуре должно стать изучение регулятивных возможностей культуры, апеллирующих к деятельностному потенциалу человека (как созидательному, так и разрушительному), который, в свою очередь, детерминируется его фундаментальными культурными ориентациями и актуальными способами применения этих ориентаций» [9].
Понятие «культурная динамика», введённое в первой половине XX века П. А. Сорокиным в фундаментальном социологическом исследовании «Социальная и культурная динамика» [8], позволило рассмотреть логику и последовательность всех изменений, происходящих в культуре, в её пространстве и времени. Многочисленные исследования типов культурных изменений, их форм и детерминант культурной динамики, проведённые представителями раз- личных научных школ (М. Вебер, А. Моль и другие), позволяют в какой-то мере предугадывать черты будущих культурных изменений, опираясь на понимание закономерностей последовательного и необратимого повышения уровня сложности культурных систем. К таким достаточно чётко определяемым механизмам культурной динамики можно, на наш взгляд, отнести процессы культурного потребления, выстроенные в тесной связи с общей системой экономического потребления. Говоря о культурном потреблении, мы имеем в виду прежде всего включение личности и социальных групп в процесс освоения культурных ценностей, в том числе в формате разнообразных социально-культурных услуг, ориентированных на удовлетворение культурных потребностей.
Важно, что процессы культурного потребления определяют значительные изменения внутри культуры и во взаимодействии разных культур, для которых характерны целостность, наличие упорядоченных тенденций, а также направленный характер [1].
Наиболее полно процесс культурного потребления [4] сегодня представлен в форматах потребления, обусловленных практиками современных культурных индустрий.
Описанный Т. Адорно и М. Хоркхай-мером в середине XX века процесс коммодификации культуры (commodification of culture) [2] сегодня уже перестал восприниматься с негативной коннотацией. Тиражируемая и коммодифицированная культура, то есть культура, ставшая товаром, понимаемая Т. Адорно и М. Хоркхаймером как лишённая возможности возвышать и облагораживать мир, сегодня принимается не так однозначно негативно. Культурологи и социологи признают, что культурные объекты и услуги, которые стали предметом продажи и покупки, уже не теряют во времени и пространстве своих социорегуля-тивных качеств, а массовое тиражирование не влияет на их авторское начало и культурную уникальность.
Д. Хезмондалш [11], достаточно полно рассмотревший культурные индустрии, утверждает, что рост их влияния на общую динамику современной культуры был обусловлен экономическим, политическим и культурным кризисом, охватившим западные общества в конце 1960–1970-х годов. По его мнению, «этот кризис вызвал значительную политическую реакцию, каковой стал подъём НЕОЛИБЕРАЛИЗМА, но, для информационного и культурного секторов в особенности, важен также расцвет дискурса ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА» [11, с. 24]. Однако исследователь призывает не останавливаться на этих факторах, а, преодолевая редукционизм, также «учитывать три других вида изменений, которые привели к сдвигам в культурном производстве и потреблении. Это изменения в бизнес-стратегии, социокультурные и текстуальные изменения, а также технологические изменения»[11, с. 24].
Отечественные авторы также практически единодушны в признании того, что эти изменения (социокультурные, текстуальные, технологические и другие) сегодня находят отражение в ценностно-смысловой системе современной культуры и активно включены в процесс её индустриализации.
На это обстоятельство обращают внимание зарубежные (Д. Хезмондалш [11] и другие) и отечественные исследователи современной культуры (Г. А. Аванесова [1], О. Н. Астафьева [3], А. Я. Флиер [9; 10], А. В. Костина [5], Е. Н. Шапинская [13] и другие). Однако полного единодушия здесь нет, поскольку исследователи к культурным индустриям относят не только массовое производство разнообразных артефактов, но и вообще любые тиражируемые практики культурной регуляции. Такую, например, достаточно оригинальную идею высказывает А. Я. Флиер, считающий что «культурные индустрии представляются важной формой культурного производства со своей выраженной функцией: обеспечивать массовое распространение типовых культурных образцов, выполненных в более или менее стандартных формах по стандартным технологиям, но – главное – соответствующих стандартным идеологическим задачам. Цели достижения каких-либо высот в утилитарном, эстетическом, интеллектуальном качестве и пр. при этом не ставятся. Массовость и стандартизированность, социализация и инкультурация людей по единым и универсальным образцам, обеспечение их максимальной культурной лояльности, доведённой до автоматизма, – вот главные критерии качества в оценке достижений культурных индустрий» [10, с. 102].
Отметим, что в ходе анализа современных культурных индустрий преимущественный акцент делается именно на культурном производстве – развитии культурных индустрий как технологической системы. При этом аспекты культурного потребления и его трансформации рассматриваются менее детально, а следовательно, без должного внимания остаются значимые детерминанты культурной динамики.
Особую позицию в этом вопросе занимает известный американский экономический и социальный теоретик, общественный деятель Джереми Рифкин [16], являющийся автором исследований о влиянии научно-технических изменений на экономику, общество и окружающую среду. Рифкин настаивает на том, что ценностная система культурного капитализма, который, по его мнению, приходит на смену индустриальному капитализму, будет принципиально новой и влиятельной. Ведь наметившийся в культуре повсеместный «переход из географического пространства к киберпространству», «от индустриального капитализма к культурному», «от права собственности к праву на доступ» приведёт к масштабному переосмыслению общественного договора [16], то есть к изменению всей системы социальных и культурных отношений, в которую включён современный человек. Представляя свою книгу «Эпоха доступа: как переход от собственности к доступу трансформирует капитализм», Рифкин пишет: «Происходящие изменения являются частью ещё более масштабной трансформации, происходящей в природе капитализма. Мы делаем долгосрочный переход к системе, основанной на продаже культурного опыта. Глобальные путешествия и туризм, тематические города и парки, центры развлечений, музыка, кино, телевидение, виртуальные миры киберпространства и даже социальные клубы быстро становятся центром экономики, торгующей культурными ресурсами» [15]. Уточняя смысл этого высказывания, можно указать на то, что коммодификация как процесс, начавшийся в контексте формирования культурной индустрии, привёл к тому, что товаром постепенно стала вся культура: «капиталистическое путешествие, начавшееся с коммодификации товаров и собственности, заканчивается коммодификацией человеческого времени и опыта» [15]. Полагаем, что здесь отмечен принципиально новый аспект культурного потребления, которое в перспективе может стать центральной детерминантой культурной динамики.
Уже сегодня с этих позиций в зарубежной философии культуры и социологии подвергается резкой критике излишнее, чрезмерное потребление материальных ресурсов, продуктов, услуг, а альтернативой видится перенос потребления в сферу культуры и социальных отношений.
«Если задуматься о двадцатом веке, то большой доминирующей системой ценностей был материализм, вера в то, что если бы у нас было больше вещей, мы были бы счастливее», – отмечает Джеймс Уоллман, автор социальных прогнозов, приведённых в книге «Stuffocation: Living More with Less» [18]. В этой книге Уоллман описывает судьбоносный для культурной динамики переход от собственности к опыту, переживанию, впечатлению: «Большая перемена в том, что я называю эмпиризмом, заключается, скорее, в поиске счастья и статуса в опыте» [18, p. 6], а не в обладании вещами и ресурсами.
Данный текст Джеймса Уоллмана неизбежно вызывает вопрос о значении понятия stuffocation , не только употреблённого в заглавии книги, но и ставшего предметом анализа. Не следует его понимать напрямую как «вещификация», ибо напрашивается именно такой смысл перевода. Но, скорее, речь идёт о том, что мы обычно вкладываем в понятие «потребительство». Поэтому значение stuffocation наиболее точно выражают понятия «излишнее потребительство», «погоня за вещами». И в этом смысле новая экономика впечатлений даёт современной культуре шанс отказаться от «ценностей» излишнего материального потребления.
Главная же особенность новой экономики состоит в том, что она основана на обмене культурного опыта на деньги. Примером этого может стать туризм, галерейный, развлекательный бизнес и другие сег- менты креативного бизнеса. Это приводит к принципиально новому состоянию экономических систем, которое характеризуется смещением капитализма в культурную сферу, в которой культурный опыт становится коммерциализированным.
Эти общие качества культурных индустрий в современных условиях претерпевают заметные метаморфозы – на первый план выдвигается нематериальное значение продуктов и услуг, которое уже во многом определяет их материальную ценность. Так формируется новое, во многом уникальное состояние общественных отношений как экономики впечатлений, а также и культуры в целом уже как культуры нематериального потребления и впечатлений. Этому в немалой степени способствует глобальный переход к сетевым коммуникациям, который ускорил формирование новой экономики впечатлений. При этом отмечаются беспрецедентные трансформации: «рынки замещаются сетями», «товары – услугами», «продавцы – поставщиками», «покупатели – пользователями» (Дж. Рифкин). Зарубежные исследователи уже отмечают новую значимую тенденцию: «Всё более широкое обращение к лицензиям, лизингу и подписке является звоном колокола по собственности и составляет матрицу новой эпохи экономики» [14]. Так, в культуре получает легитимность новая идея преимущества права на доступ к культурным ценностям взамен ранее существовавшей необходимости владеть собственностью. Полагаем, что здесь выявлена важнейшая характеристика современной культурной динамики – на смену модели владения культурным ресурсом приходит модель доступа к этому ресурсу . Это становится главным маркером организационной системы экономики впечатлений.
Определяя категорию «впечатления», исследователи обращают внимание на то, что это в первую очередь «события, которые привлекают людей на персональном уровне» [7, с. 133]. При этом впечатления являются результатом «культурно-базовой креативности, поскольку она способна генерировать эмоции, ценности и видение» [7, с. 133]. Продолжая данные характеристики можно указать на общую для всех впечатлений характеристику – эмоционально-чувственную окраску культурных явлений и услуг, получающую наиболее полное выражение в общей удовлетворённости человека собственным существованием.
Д. Б. Пайн и Х. Д. Гилмор призывают не сводить всю экономику впечатлений только к экономике развлечений. Они выделяют четыре области экономики впечатлений, а именно – «развлечение, обучение, эскапизм (уход от реальности) и эстетика помогают человеку не погубить себя избытком увеселений» [6].
При этом авторы указывают на ошибочную позицию, согласно которой «все впечатления обязательно должны иметь тенденцию к недостоверности или виртуальности» [6].
«В действительности экономика впечатлений допускает существование широкого спектра альтернативных предложений, начиная с более или менее естественных и искусственных, оригинальных и поддельных, искренних и наигранных, реальных и фальшивых, эгоистичных и альтруистичных вариантов во всех измерениях пространства, времени и материи. И чтобы опровергнуть ещё одно мнение, будто мы стремимся превратить “всю жизнь” в “платные впечатления”, мы возразим, что, несомненно, признаём факт существования общественных и личных впечатлений, на которые не распространяются товарно-денежные отношения» [6].
Хорошей иллюстраций этого тезиса служит призыв европейских рестораторов «открыть новый диапазон предложений для потребителей, которые предпочитают тратить располагаемый доход на то, чтобы делать что-либо вместе с друзьями, а не покупать что-то» [17].
И это отражение не только трансформаций в экономической модели европейского ресторанного бизнеса, но прежде всего – значимых изменений в системе культурных практик современного западного общества. Их сдвиг в сторону потребления впечатлений, услуг включённого участия становится предметом не только философско-социологических исследований, постепенно идеи нового культурного потребления, конкретизированные в концепте «экономика впечатлений», становятся материалом для популяризации и достоянием массового сознания.
В качестве примера можно привести статью Саймона Усборна в «Гардиан», озаглавленную «Просто сделайте это: экономия впечатлений и то, как мы отвернулись от “вещей”» [17], которая ориентирована на знакомство рядовых читателей с новыми идеями социологии и культуры. Автор приводит некоторые данные об операциях по кредитным и дебетовым картам Великобритании: данные за апрель 2017 года сви- детельствовали о двадцатипроцентном росте расходов в пабах по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Расходы в ресторанах выросли на 16%, а в театрах и кинотеатрах – на 13%. Между тем универмаги пострадали от падения на 1%, продажи автомобилей упали на 11%, а расходы на бытовую технику упали на 2,5% [17]. Это ти-
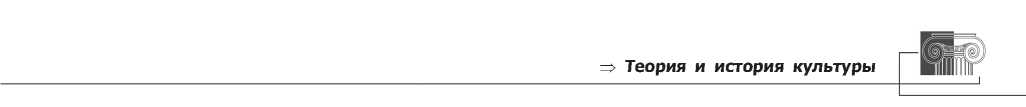
пичная картина, которая характеризовала структуру потребления в развитых странах до пандемии COVID-19, разразившейся в мире в 2020 году. В тот период структура потребления уже явно смещалась в сторону экономики впечатлений, а в период пандемии и вовсе был зафиксирован беспрецедентный рост доходов в информационно-развлекательном секторе культурных индустрий. И дальнейшее утверждение эффективности модели экономики впечатлений продолжается.
Отметим, что приведённые данные отражают общую тенденцию, зафиксированную ещё в 2011 году британским писателем-экологом Крисом Гудоллом, который, используя правительственные данные государственного мониторинга потребления в Великобритании, указал на «развязку» экономического роста и материального потребления. Он определил 2001 год как переломный момент, который задолго до рецессии 2008 года и всего, что последовало за ней, ознаменовал «победу» нематериального потребления над материальным [цит. по: 17].
Понятно, что экономический расчёт нельзя напрямую экстраполировать на анализ культурного процесса. Однако при этом можно указать на то, что объективные изменения в структуре потребления в развитых капиталистических странах неизбежно приводят в движение все составляющие процессов культурной динамики, существенно изменяют социорегулятив-ные возможности культуры. Изучая эти явления, необходимо, на наш взгляд, рассматривать культуру как важнейший фактор, определяющий цели социальной активности людей.
Итак, среди важнейших отличительных черт формирующейся сегодня культу- ры нематериального потребления и впечатлений, соответствующей экономке впечатлений, необходимо назвать, как минимум, следующие:
-
• снижение уровня потребления вещей и повышение активности, не связанной с материальным потреблением;
-
• закрепление в культуре новой идеи: закрепление права на доступ к культурным ценностям взамен ранее существовавшей идеи о принципиальной необходимости владеть собственностью как залогом экономической эффективности;
-
• преимущественный акцент на аффективно-эмоциональном аспекте в производстве и предоставлении товаров и услуг для потребления, что проявляется в снижении значения паттернов практической целесообразности и функциональной эффективности;
-
• точная сегментация и ориентированность продуктов и услуг, которая проявляется в дифференциации предложений рынка в зависимости от социальных, культурных, ментальных, личностных особенностей потребителей, что способствует росту эмоционального эффекта, количества впечатления.
А. Я. Флиер указывает на одну из наиболее актуальных целей в познании культуры – осмысление её как «системы определённых трендов изменчивости» [9]. Он призывает сосредоточиться прежде всего на изменчивости, инициированной «культурными запросами самих членов сообщества, их потребностью в культурном самовыражении» [9]. Эта изменчивость определяется причинами «культурной неудовлетворённости общества», более чётким осознанием социальными группами новых культурных потребностей. Решение этой задачи тесно связано с необходимостью всестороннего анализа нового феномена – активно изменяющейся культуры нематериального потребления и получения впечатлений.
Формирующаяся сегодня в мире и России экономика впечатлений выдвигает новую повестку культурной политики, поддержки её субъектов и, шире, «запускает»
глубинные изменения в системе ценностей постиндустриального общества. И речь здесь идёт не просто об изменении в системе потребления и привычек тратить деньги, а о культурном революционном сдвиге, запустившем новый этап современной культурной динамики.
Список литературы Экономика впечатлений в динамике современной культуры
- Аванесова Г. А. Динамика культуры // Культурология. XX век : энциклопедия : в 2 томах / главный редактор, составитель С. Я. Левит. Санкт-Петербург : Университетская книга, 1998. Том 1. С. 110.
- Адорно Т., Хоркхаймер М. Диалектика просвещения / перевод с немецкого М. Кузнецова. Москва, Санкт-Петербург : Медиум, Ювента, 1997. 312 с.
- Астафьева О. Н. Досуговые формы в «переходный период» развития культуры // Социология власти. 2005. № 1. С. 71-83.
- Корсунова В. И. Культурное потребление в социологических исследованиях: обзор подходов к измерению понятия // Экономическая социология. 2019. Том 20. № 1. С. 148-173.
- Костина А. В. Россия: путь к будущему : технологии формирования нового общества : цивилизационная идентичность, информатизация жизни, культурные ценности и «общество потребления». Москва : URSS, 2019. 196 с.
- Пайн Д. Б., Гилмор Х. Д. Экономика впечатлений : работа - это театр, а каждый бизнес – сцена / [перевод с английского и редактирование Н. А. Ливинской]. Москва [и др.] : Вильямс, 2005. 299 с. : ил., табл.
- Салтанович И. П. От экономики необходимости к «экономике впечатлений» // Управление в социальных и экономических системах. 2018. № 27. С. 133-134.
- Сорокин П. А. Социальная и культурная динамика: исследование изменений в больших системах искусства, истины, этики, права и общественных отношений / перевод с английского В. В. Сапова. Санкт-Петербург : Изд-во Русского Христианского гуманитарного института, 2000. 1054 с.
- Флиер А. Я. Науки о культуре после постмодернизма. Постфутурология [Электронный ресурс]. URL: http://www.culturalnet.ru/main/person/626
- Флиер А. Я. Культурные индустрии в истории и современности: типы и технологии // Личность. Культура. Общество. 2013. Том 15. № 1 (77). С. 88-103.
- Хезмондалш Д. Культурные индустрии / перевод с английского И. Кушнаревой ; под научной редакцией А. Михалевой ; Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2014. 456 с.
- Черников И. А. Современный досуг: между свободой и потреблением // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2019. № 5 (91). С. 111-120.
- Шапинская Е. Н. Культурология после постмодернизма // Культурологический журнал. 2010. № 1.
- "The Age of Access: Jeremy Rifkin, the Prophet. Available at: https://www.webtimemedias.com/article/age-access-jeremy-rifkin-prophet
- Office of Jeremy Rifkin. Available at: https://www.foet.org/books/the-age-of-access/
- Rifkin J. (2000) The Age of Access: How the Shift from Ownership to Access Is Transforming Capitalism. London [etc.], Penguin books, Cop. : 312.
- Usborne S. Just Do It: the Experience Economy and How We Turned Our Backs on "Stuff". Available at: https://www.theguardian.com/business/2017/may/13/just-do-it-the-experience-economy-and-how-we-turned- our-backs- on-stuff
- Wallman J. (2015) Stuffocation: Living More With Less. London, Penguin Books Ltd. : 336.