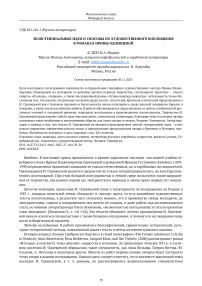Экзистенциальные идеи и способы их художественного воплощения в романах Ирины Одоевцевой
Бесплатный доступ
Цель настоящего исследования заключается в определении специфики художественного метода Ирины Владимировны Одоевцевой на материале ее романов зрелого периода творчества, составивших трилогию – «Ангел смерти» «Изольда», «Зеркало», а также послевоенный роман «Оставь надежду навсегда». Актуальность темы обусловлена тем, что именно эти романы составили среди коллег–писателей, критиков и читателей представление о И. Одоевцевой как о большом прозаике и были некогда очень популярны в среде русской эмиграции Европы и Америки, а ныне они незаслуженно забыты. В работе обосновывается представление о синтезе особенностей различных течений и тенденций времени, нашедших воплощение в произведениях писательницы. Творчество И. Одоевцевой представляет собой сплав черт реализма, символизма и авангарда, благодаря чему под пером автора возникают такие необычные и многозначные образы, как Ангел жизни и смерти, ЧеловекУниверсум. Автор приходит к выводу о том, что тексты И. Одоевцевой не являются пространством чистой литературной игры – в них нашли отражение конкретные реалии эпохи и оригинальные представления автора о Времени и Истории; проблема «Вселенского человека» и двух мировых «зол» XX столетия.
Авангард, Ангел жизни и смерти, литература русского зарубежья, подросток, реализм, роман, Серебряный век, символизм, художественный метод, Человек-Универсум
Короткий адрес: https://sciup.org/148332371
IDR: 148332371 | УДК: 821.161.1 | DOI: 10.37313/2413-9645-2025-27-104-29-36
Текст научной статьи Экзистенциальные идеи и способы их художественного воплощения в романах Ирины Одоевцевой
EDN: KZCRLP
Введение . В настоящее время прозаическое и раннее лирическое наследие «последней улыбки серебряного века» Ирины Владимировны Одоевцевой (урожденной Ираиды Густавовны Хайнеке) (18951990) периодически привлекает внимание не только отечественных, но и зарубежных исследователей. Произведения И. Одоевцевой являются предметом не только литературоведческих, но культурологических исследований. При этом большой популярностью в ученой среде пользуются такие направления ее творчества, как ранняя лирика (до эмигрантского периода) и малая проза первых лет эмиграции.
Дилогия мемуаров, принесшая И. Одоевцевой славу и популярность по возвращении на Родину в 1987 г., накрыла гигантской тенью «большую» и «малую» прозу, то есть важнейшие художественные тексты писательницы, в результате чего сложилось мнение, что в промежутке между молодыми, до эмигрантскими, годами и возвращением она ничего не создала, и даже работа над воспоминаниями стала, по мнению литературоведа Олега Лекманова, «возможностью взять реванш за тускло прожитые годы эмиграции» [Лекманов О., с. 141-142]. Это отчасти объясняет, почему произведения И. Одоевцевой начали изучаться специалистами с таким большим опозданием, и почему эти исследования чаще носят избирательный характер.
Методы исследования. В работе применялись биографический, сравнительно-исторический, культурно-исторический методы, комплексный анализ текста и метод интертекстуального анализа.
История вопроса: Ксения Сребрянски-Хартвелл в своей монографии «The Female Adolescent in Exile in Works by Irina Odoevtseva, Nina Berberova, Irmgard Keun, and Ilse Tielsch» (2000) рассматривает роман «Изольда» в контексте темы девушки–подростка в изгнании. За прошедшую четверть XXI в. к изучению наследия И. Одоевцевой обращались такие специалисты, как Анна Возьняк, Патрик Витчак, Ю. Елькина, А. Петухова и некоторые другие. Многие из работ перечисленных авторов будут составлять точку опоры в данном исследовании. Однако здесь следует отметить, что в контексте заявленной темы наследие И. Одоевцевой, в т. ч. романы, не рассматривались вышеуказанными специалистами подробно. Актуальным представляется изучение художественного метода, который нашел свое воплощение в романной трилогии и в послевоенном политическом романе «Оставь надежду навсегда» (1945-1946). На сегодняшний день фундаментальных работ по этому произведению не наблюдается, поэтому данная статья может иметь ценность и как первое введение вышеобозначенного романа в научный и общественный оборот.
Результаты исследования . Литературовед Марк Раев в своей «Истории культуры русской эмиграции: 1919-1939» выдвинул утверждение, что достижения И. Одоевцевой, равно как и некоторых других писателей за рубежом, в изгнании, носили достаточно скромный характер – они были менее новаторскими, чем все то, что было создано ею ранее, на Родине, до эмиграции. Это высказывание подразумевает, что значимость, вес и авторитет писательницы во многом были искусственно созданными и преувеличенными за счет самого факта ее пребывания в изгнании: «имело большое значение [лишь то, что] их имена появлялись на страницах большинства эмигрантских изданий — альманахов, журналов, газет» [Раев М., с. 146]. В этом контексте уместно вспомнить и рассуждение другого эмигрантского литературоведа Владимира Варшавского, причислившего писательницу к «незамеченному поколению». Такое определение закрепилось и стало устойчивым не только по отношению к И. Одоевцевой, но и к ряду других писателей эмиграции [Варшавский В.С., с. 193]. Расшифровку понятия «незамеченное поколение» дал историк и богослов Александр Шмеман: «Не замеченное в России, непроницаемой в двадцатые и тридцатые годы для внешнего мира, оказалось поколение это не замеченным и русской эмиграцией, где тогда еще безраздельно царили светила предреволюционной эпохи» [Шмеман А., с. 1]. Подобная точка зрения имеет место, к сожалению, и в современном литературоведении, обращающемуся к наследию И. Одоевцевой. Однако, если мы вчитаемся в тексты писательницы, то обнаружим богатые смысловые пласты, содержащие упоминания и оценку исторических реалий времени, социальных и культурных событий, современных автору, что позволяет нам говорить о глубине и широте ее представлений о жизни, о том, что она является самостоятельной и самодостаточной творческой личностью.
Романы, представляющие основной материал настоящего исследования, относятся ко второму (или центральному) периоду творчества И. Одоевцевой. Их временной охват насчитывает фактически два десятка лет (с момента выхода первого романа трилогии «Ангел смерти» (1928) и до политического романа «Оставь надежду навсегда» (сентябрь 1945 – ноябрь 1946)).
Эмигрировав из России в 1922 г. (через год после расстрела учителя Николая Гумилева в августе 1921), И. Одоевцева, как и многие ее коллеги, обратилась к художественному осмыслению культурноисторического и политического феномена Революции и эмиграции, невольным участником которого она стала, как и миллионы ее соотечественников.
Как и у многих эмигрировавших писателей, центрообразующей тематикой художественных произведений Ирины Владимировны стало жизнеописание эмигрантов в новых, чуждых для них условиях.
Стоит привести здесь оценку Е. Гальцовой, которая верно отметила главное переживание И. Одоевцевой, ставшее смысло- и центрообразующим: «Иванова и Одоевцеву теоретические проблемы мировой культуры волновали явно в меньшей степени – их заслоняла неизбывная тема России, которую они потеряли» [Гальцова Е., с. 105].
Написав множество рассказов о нелегкой, зачастую губительной жизни эмигрантов, редкие судьбы которых складываются счастливо, или по крайней мере удачно, в конце 1920-х гг. И. Одоевцева «локализует» эту тему, сделав объектом своего художественного исследования подростков-эмигрантов. В освоении этой темы она не была одинока, певцом русского детства в эмиграции по праву можно считать ее современника А.М. Гликберга (1880-1932), более известного под псевдонимом Саша Черный. Благодаря созданной им галерее образов русских детей (Игорь из «Чудесного лета» (1928-1929), Зина из «Дневника Фокса Микки» (1924-925), «Тихая девочка» (Тося) (1930) и множества других рассказов о детях, за ним по праву и закрепилась репутация «певца детской темы». Однако детство в произведениях И. Одоевцевой концептуально противоположно детству в видении Саши Черного и имеет больше сходства с «жестокой прозой» итальянской писательницы Флавии Стено.
Однако, если Флавия Стено в «Сиротах живых» (1926) «рисует волнующие картины судеб детей, сданных разошедшимися родителями на руки воспитательниц пансионов, и не заботящихся о душе и впечатлениях несчастных «сирот»» [Куллэ Р., с. 208], то И. Одоевцева, фактически предлагает иную вариацию данной темы: в ее романах нет пансионов, жизнь девочек подростков Людмилы (Люки) и Лизы (Изольды) никем и ничем не ограничены.
Итак, главные героини романов И. Одоевцевой – девочки-подростки, дети без детства, изначально предоставленные сами себе. Их по-детски светлое чувство радости и любви ко всему миру – чувство безграничное и безответное – в процессе повествования обрастает свойственным их возрасту желанием познания окружающего их мира. Однако неподконтрольность этих детей кому-либо из взрослых, разрушение привычной связи «ребенок – родитель» сужает их способ познания мира, превращая его из эмпирического в единственно доступный для них– эротический.
Здесь И. Одоевцева в лучших традициях средневековой лирики играет контрастами, заранее указывая читателю, по А.Н. Веселовскому, что сопоставления весны (в случае Одоевцевой – молодости) и любви уже сложились. И они абсолютно естественны [Веселовский А.Н.,1940, с.164]. Душевное смятение и пробуждение чувственности главной героини романа «Ангел смерти» Людмилы автор показывает «по нарастающей» - через сон и классическую средневековую атрибутику традиции «Романа о Розе». Мотив розы сопровождается другим дополнительным мотивом, таинственным и манящим шумом крыльев (явный намек на будущего «Ангела смерти»). С его фигурой связан еще один уклон в сторону литературной традиции – намек на «кудрявого барашка» А.С. Пушкина и чтение отрывка из одноименного стихотворения Лермонтова - трибьют представителя Серебряного века Золотому веку русской литературы. Воплощением этого образа лермонтовского «Ангела смерти» в конце романа станет сосед Арсений.
Один из важных подтекстов, определяющий и объясняющий «затяжную» тематику трилогии, продиктован образом крыльев, зашифрованным символом войны и смерти. К подобной трактовке художники прибегали еще со времен Средневековья, однако наибольший расцвет этой темы приходится на начало XX в., когда наряду с религиозными мотивами в изобразительном искусстве (серия офортов Эль Лисицкого), появляются «Ангелы и аэропланы» (1914) [Из серии: «Мистические образы войны»] Натальи Гончаровой. Пример окончательного закрепления знака равенства между крыльями и смертью в отечественной литературе можно видеть в художественных текстах двух известнейших представителей – Александра Грина и Александра Гликберга, отразивших события Первой мировой войны.
В стихотворении А. Грина «Спор», вошедшем в антологию стихов 1918-1930 гг. (и, по всей видимости, относящегося к 1917 г.), аэростат летит «над полем смерти» и двое ученых ведут во время полета спор: один предлагает попрать земные законы и подчинить себе мир, даже путем войны. Другой ученый – антагонист своего визави – категорически против и в итоге констатирует плачевную истину:
Нет, — спустимся.
Картина гнусной свалки,
Вблизь наблюдённая, покажет вновь и вновь, Что человечеству потребны палки, А не любовь1.
Другое прозаическое, и более юмористическое, произведение принадлежит выдающемуся сатирику Саше Черному. Это одна из его «солдатских сказок» – «Армейский спотыкач», написанная в 1932 г., за несколько месяцев до трагической смерти. В ней простая крестьянская баба говорит комиссовавшемуся солдату: «По небушку летают, солдатские газы пущают», несмотря на прием опрощения, добавляющий, несомненно, нотки комизма, контекст этой фразы весьма трагичен: последствия загрязнения атмосферы продуктами новых милитаристских орудий уже запущен и неостановим. В данном контексте крылья – это генетически запечатленный на подсознательном уровне образ войны, сохранившийся у родителей и передавшийся детям эмиграции, рождение и первые годы которых, как показывает И. Одоевцева, определенно прошли в России. При таком развитии событий, в общем контуре подтекста, вспоминаются также «совиные» крыла Победоносцева, огромная «тень Люциферова крыла», распростертая над Россией в незавершенной поэме Александра Блока «Возмездие», предвестница гибели России и упадка русской цивилизации.
Итоговая двойственность образа Ангела – как ангела не только смерти, но и жизни – предопределяет его персонализацию в трилогии. В итоге, главными ангелами жизни и смерти становятся дети эмиграции. Авраамический образ лишь помогает раскрыть их дуалистическую природу.
Второй роман трилогии – «Изольда» (1929) – не имеет прямой сюжетной связи с предыдущим, однако они объединены общей темой детской любви и смерти. По мнению литературоведа Патрика Вит-чака, в основании произведения лежит мотив ностальгии, свойственный эмигрантам первой волны [Witczak Р., р. 91]. В контексте отношений мужчины и женщины, господства и подчинения, о чем шла речь выше, этот роман контрарен двум остальным. Его тематический эпицентр - отношения влюбленных подростков Лизы и Андрея, и он умело скрыт несколькими параллельными любовными линиями и «зигзагами». Одна из линий романа – поиски английского подростка-аристократа Кромуэля своей романтической Изольды, воплощение которой находит в русской, слегка развязной эмигрантке Лизе. Героем этой сюжетной линии, ищущим любви (и последовательно находящим свою смерть), является мужчина. Именно обретя своего Ангела жизни и смерти в лице Лизы, которую он называет Изольдой, Кромуэль запускает отсчет собственной жизни.
Изольду можно считать одним из самых двойственных образов не только данного романа, но и трилогии в целом (в контексте галереи образов молодых девушек и женщин).
Она хочет наслаждаться жизнью во всей ее полноте. Ей нравится всепоглощающее ощущение свободы, проникающее внутрь вместе с воздухом. В одном из эпизодов И. Одоевцева в сказочно-шутливой манере обыгрывает черту характера девушки как колдовское начало. Лизе нравится Кромуэль как друг, способный предложить ей роскошный life style – с ресторанами, быстрой ездой на автомобиле и шампанским. Ради своей Изольды Кром идет на первое преступление – крадет драгоценности своей матери. Богатство, олицетворением которого является Кромуэль, привлекает брата Изольды – Николая – и одноклассника Андрея. Сцена, предшествующая убийству Кромуэля, как и сцена самого убийства его Николаем и Андреем, ужасала современников. Об этой реакции написал Дон Аминадо в своей шутке «Всем сестрам по серьгам» (1921-1931) [Аминад, с. 2].
Одновременно Лиза – квинтэссенция тоски по Родине, символически связанной с образом отца. Несчастная девочка в буквальном смысле боготворит свою мать, работающую в ночных клубах. Та разоряет глупого и доверчивого банкира-еврея Кроля, берет на иждивение альфонса намного младше себя, и в итоге сбегает с ним, бросив детей.
Последний в трилогии роман «Зеркало» (1938) своим названием предопределяет логическое завершение мортального мотива. Символика зеркала является образной доминантой произведения. Она используется еще с библейских времен, прочно ассоциируется в истории мировой литературы и культуры с представлением о границе между двумя мирами – живым и неживым. Выполняя посредническую функцию, зеркало становится наглядным, и даже осязаемым символом безвременья человеческой души – души маленькой Люки – взрослой кинодивы Людмилы Лурье. Чувство скрытого страха, которое испытывает главная героиня при виде зеркала, такого обыденного предмета интерьера, переходит в ужас, «не обуздываемый» логическими аргументами.
Василий Яновский, видный прозаик и литературный критик, в свое время отметил, что новый роман И. Одоевцевой [«Зеркало»] представляет собой шаг вперед в контексте ее творческого пути [Яновский В., с. 513].
Современные исследователи также отмечают кинематографичность «Зеркала». Так, Е. Проскурина пишет: «Кинопоэтика и театральность задают здесь главный тон. <…> Кинематограф становится в романе своеобразной отраженной реальностью» [Проскурина Е.]. Ю. Елькина добавляет, что «роман, как настоящий киносценарий, написан практически полностью в настоящем времени, часто писательница использует прием «повторного кадра» для усиления значения какой-то детали» [Елькина, с. 62].
Яркой особенностью художественного метода И. Одоевцевой можно считать следование определенной традиции, создание временного исторического континуума, отдельные части которого последовательно воспроизводят романы трилогии. Так, например, как было показано ранее, становится очевидным, что «Ангел смерти» относится к традиции «Золотого века» русской литературы, гармонично сочетаясь с традициями европейского модернизма. Повествовательный тон «Изольды» во многом схож с традицией старофранцузского романа [Веселовский А.Н.,1938, с. 36], а начало и конец произведения указывают на прямую связь с «Романом о Тристане и Изольде» Ж. Бедье.
«Зеркало» прямо соотносится с двумя крупнейшими тенденциями литературы тех лет – сюрреализмом и авангардом – и фактически становится их единовременным вместилищем, одним из показателей которой является тенденция к синематичности.
Гибель Люки и ее нерожденного ребенка в автомобильной аварии – это не только смысловой рефрен, кара за ее непредумышленную детскую вину в гибели сестры Веры и нерожденного ребенка последней. В этом автор усматривает закономерность для всех эмигрантов – невозможность продолжить свой род и обрести земное бессмертие. Социополитический и культурный контекст, участником и очевидцем которого становится И. Одоевцева в ипостасях «женщина» и «автор», представляют эмиграцию как особый социальный «конклав», существующий по принуждению обстоятельств в чужом пространстве. Оторванный от своей земли, он обречен на забвение, в котором даже сама жизнь – недолгая, серая и беспросветная по своей сути, является вечным чистилищем.
Такой тип жизни для обреченных с рождения на страдание людей находит свой отклик в послевоенном политическом романе И. Одоевцевой «Оставь надежду навсегда» (сентябрь 1945 – ноябрь 1946).
В отличие от трилогии, он не только свидетельствует о продолжающейся, но все же иной социокультурной и политической парадигме, но и создается в других условиях жизни самого писателя. Пережив со своим мужем, поэтом Георгием Ивановым, вторую мировую войну и несправедливо обрушившийся на них социальный остракизм, лишившись остатков состояния, доставшегося после смерти в 1933 г. отца, Густава Хайнеке, И. Одоевцева еще более остро ощутила беспринципность возникновения и функционирования механизма социального отчуждения и разобщенности, что помогло сделать роман еще более пронзительным. В отличие от эмигрантского сообщества, окрыленного свержением Гитлера и надеявшегося на то, что оставшийся в СССР народ воспримет смерть угнетателя с радостью, И. Одоевцева (наряду со множеством других вещей) предсказала всеобщее народное горе после смерти Сталина; отметила внутреннюю логику русского народа, обеспечившую легитимность дальнейшего продолжения функционирования «совдепии» и феномен, который будет представлен в конце XX в. мировому сообществу и мировой культуре как «машина террора», «красный террор» или «сталинские репрессии».
И. Одоевцева констатирует заведомую тщетность надежд эмигрантского сообщества на возврат к прошлому, равно как и надежды на стабилизацию собственной жизни.
«Так было всегда: все мои надежды оказывались чертовыми черепками и не приносили нам ничего [Одоевцева И., с. 191], – заключает И. Одоевцева, вспоминая о событиях, связанных с романом. И тем не менее, несмотря на несоответствие мечты и сбывшейся реальности, колоссальный успех романа «Оставь надежду навсегда» буквально возродил И. Одоевцеву как автора.
Политический роман не соответствует в полной мере жанру «роман-эпопея», однако широкий временной охват, острота столкновения различных идеологий, культур и социальных слоев, представленная в романе, дают основание на расценивание его как эпопеи.
Начало романа, в котором два разных социальных представителя царской России – барчук Андрик Луганов и сирота Мишук Волков – становятся в гимназии друзьями на всю жизнь, превращается в подробное повествование о том, как они растут в доме «Мамы Кати», родной матери Луганова. Меняются их взгляды на происходящие социальные изменения. Мишук становится «подпольщиком», многократно сидит в тюрьме, в то время как Андрей становится подающим надежды писателем.
Революция, символично и одновременно реалистично показанная И. Одоевцевой как сожжение крестьянами заживо доброй барыни (мамы Кати), стала невидимой точкой невозврата и непреодолимого конфликта, невидимо расколовшей мир идей каждого брата.
Они, как и прежде, едины: Луганов – видный советский писатель, любимец Великого Человека (Сталина), Волков –партиец, идейный большевик.
Сцена воспроизведенной традиции крестовых братьев, еще более резко подчеркивающая контрастное отношение «палача» и «жертвы», прописана И. Одоевцевой без излишней сентиментальности. Последующий авторский прием альтернативы – замены нательных крестов наручными часами – вполне соответствует милитаристски-агностическому духу тех лет и является одним из множества эпизодов авангарда в романах. Кроме того, символикой часов как физического воплощения времени, а значит и жизни, И. Одоевцева «ut finale» подчеркивает, что для самого Волкова начался отсчет времени его собственной смерти.
Диалог братьев, перемежающийся красноречивым молчанием, представлен как идеологическая борьба добра и зла: советской России в лице Волкова и патриота, не смогшего стать эмигрантом, писателя Луганова. Шуточная эпиграмма на Великого человека, ставшая началом «кругов ада» для Луга-нова и катализатором в развитии событий для других героев – названого брата Волкова, жены, примы Большого театра Веры Назимовой – приводит к пророческому видению Луганова в тюремной больнице: два «зла» – Гитлер и Сталин – сходятся в поединке и в смертельной схватке уничтожают друг друга. Это видение-надежда уничтожается при прощании Волкова и Луганова, поскольку именно тогда становится ясно, что одно из двух «зол» всегда будет живо. Душа последнего уходит туда, где существует нравственный закон Канта, который И. Одоевцева вновь вводит в контекст убийства Луга-нова. Волков же, будущий Маршал Победы, – Волк – с того самого момента будет бояться собственной смерти. Так изображает библейское знамение автор. В финале романа, когда маршал сидит в купе поезда, понимая, что уже окружен и конец его близок, с ужасом понимает две главные вещи: смерть названной матери (и биологической матери Андрика) «мамы Кати», заживо сожженной крестьянами (и Революция выступает здесь смысловым равенством мотива разрушения) – это смерть России. И виновником в смерти «мамы Кати» является он, приемный сын – Мишук Волков. Мечтая о самоубийстве, Волков осознает, что слишком слаб, чтобы противостоять системе и разрушить ее своим уходом. Именно он видит над темным тяжелым небом надпись «Оставь надежду навсегда». В его лице русская эмиграция, надежды и чаяния которой выражала И. Одоевцева, в романе претерпели крах. Эмигранты вновь увидели (на примере братоубийственной бессмысленной войны, начавшейся еще в далекие годы Революции), что ни при каких обстоятельствах миропорядок уже не будет восстановлен. У них есть только один путь – пребывание в земле Нод. Он, маршал, не может противостоять системе террора.
Выводы . Итак, тексты Ирины Одоевцевой представляют собой богатейший материал для углубленного исследования проблемы метода и жанра. Литературовед Анна Саакянц, знавшая И. Одоевцеву лично, заметила: «Проза Ирины Одоевцевой чиста, прозрачна, деликатна, по-своему — совершенна, что не мешает ей оставаться живой, как и сами ее «герои»» [Саакянц А., с. 351]. Как верно заметила современный исследователь русского зарубежья Анна Возьняк, «прозе Одоевцевой, как и другим представителям молодого поколения эмигрантских писателей, <…> свойственны новаторские эстетические тенденции» [Возьняк А., с. 97]. В проанализированных романах тема человеческого одиночества и связанная с ней проблема духовной деградации и распада личности получают свое художественное воплощение в образе Ангела жизни и смерти. Художественным контекстом для реализации этого образа является феномен «детства без детства» или «несуществующего детства». В послевоенный период творчества в романе «Оставь надежду навсегда» названная проблема обретает черты универсализма. Проблема «Вселенского человека» и двух мировых «зол» XX столетия, остается нерешенным конфликтом для эмиграции, чьи надежды претворяет автор. И. Одоевцева предоставляет возможность наглядного анагноризиса (узнавания) двух страшных образов –Ангела жизни и смерти и Человека-Универсума. Очевидно также, что творческое наследие И. Одоевцевой представляет собой сплав черт реализма, символизма и авангарда.