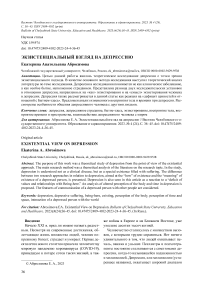Экзистенциальный взгляд на депрессию
Бесплатный доступ
Целью данной работы явилось теоретическое исследование депрессии с точки зрения экзистенциального подхода. В качестве основного метода исследования выступил теоретический анализ литературы по теме исследования. Депрессия в исследовании понимается не как клиническое заболевание, а как особое бытие, наполненное страданием. Представлена разница двух исследовательских установок в отношении депрессии, направленных на «как» экзистирования и на «смысл» экзистирования человека в депрессии. Депрессия также рассматривается в данной статье как реакция на «дефицит ценностей и отношений с Бытием-здесь». Предложен анализ измененного восприятия тела и времени при депрессии. Рассмотрены особенности общения депрессивного человека с другими людьми.
Депрессия, депрессивное страдание, бытие-здесь, экзистирование, восприятие тела, восприятие времени и пространства, взаимодействие депрессивного человека с миром
Короткий адрес: https://sciup.org/170202055
IDR: 170202055 | УДК: 159.974 | DOI: 10.47475/2409-4102-2023-24-4-36-45
Текст научной статьи Экзистенциальный взгляд на депрессию
Начало XXI в. вряд ли можно назвать радостным. Несмотря на современные достижения, облегчающие жизнь множества людей, человек по-прежнему болеет, страдает и умирает. Первые десятилетия нового столетия принесли человечеству мировую пандемию коронавируса (COVID-19), приведшую к потере сотен тысяч жизней, а так-
же войны в Европе и на Ближнем Востоке, уже унесшие десятки тысяч жизней.
Человечество столкнулось с множеством вызовов, с которыми трудно справиться. Нет ничего удивительного в том, что людей охватывает печаль, паника и уныние. Психиатры и психотерапевты постоянно сталкиваются с симптомами депрессии, когда-то называвшейся подавленностью и меланхолией. Депрессия, или меланхолия (устаревшее название), охватывает широкий диапазон состояний, включая пониженное настроение, печаль, апатию, отсутствие жизненных сил, тревогу, безнадежность, беспомощность, собственную виновность, отчаяние, желание умереть. А. Кемпински, говоря об этих состояниях, пишет: «Во время депрессии печаль настигает человека без какой-либо понятной причины. Как будто из-за неисправности электрического контакта всё вокруг гаснет, мир теряет свои краски, будущее превращается в черную, непроницаемую стену, а прошлое — в полосу темных событий, отягчающих больного чувством вины… мысли вращаются вокруг одной темы: безнадежности собственной жизни, собственной виновности и беспомощности, мечтаний о смерти, представляющейся единственным спасением» [4, с. 14]. Депрессия занимает особое место в ряду других душевных страданий — каждый человек на земле может находиться под угрозой депрессии. А. Хольцхей-Кунц полагает, что депрессия — это глубочайшее отчаяние и отрицание жизни, невозможность сказать «да» ответственности за собственное бытие и свободу. Быть в состоянии депрессии — это пребывать в отказе от жизни или, по меньшей мере, в отказе быть в прежней жизни; быть в «особых отношениях» с жизнью — видеть ее мрачные, трагические оттенки, ее печаль, ее бессмысленность и отчаяние. Чувствовать таким образом свою «экзистенциальную вину» в отрицании собственной жизни, но не иметь сил признать свою собственную свободу. Понимать, что жизнь проходит «мимо», но не делать ничего, чтобы остановить ее. Видеть свою депрессию не как болезнь, а как способ жить, как определенные взаимоотношения с жизнью, которые в том числе человек создает сам.
В данной работе представлены взгляды на депрессию А. Лэнгле, А. Кемпински, А. Хольцхей-Кунц, Д. Хелла, Л. Бинсвангера, Н. Мак-Вильямс и других авторов. В статье представлен опыт переживания находящихся в депрессии людей, основанный на терапевтической работе автора, а также на историях, рассказанных в книгах С. Эндрю, Д. Хелла, Н. Мак-Вильямс.
Экзистенциальный взгляд на депрессию меняет фокус рассмотрения депрессии как заболевания, призывает уйти от разделения на «душевное здоровье» и «душевную болезнь». Прежде всего депрессия — это особый способ бытия, особый способ проживания жизни, особые отношения с жизнью, наполненные страданием и болью. А. Хольцхей-Кунц считает, что есть разница двух исследовательских установок в отношении де- прессии — установок, направленных на «как» эк-зистирования и на «смысл» экзистирования (для чего депрессия?). В статье предлагается увидеть эти две исследовательские установки и применить их в отношении депрессивного страдания. В любом душевном страдании заключен важный смысл, значение. Исследовать, «как» существует, экзистирует человек с депрессией, а также понять скрытый смысл душевного страдания — значит работать с депрессией экзистенциально.
Основная часть
Меланхолия была известна человечеству с античных времен. Еще Аристотель в XXX книге «Проблем», озаглавленной «Об уме, понимании и мудрости», одну главу посвятил меланхолии. Аристотель считал, что меланхолия происходит от избытка черной желчи в организме человека. В качестве примеров «меланхолических» и одновременно гениальных людей Аристотель упоминает как героев античной мифологии, так и исторических персонажей. Геркулес, Аякс и Беллеро-фонт причисляются им к первой группе, а политик Лисандр, врач и философ Эмпедокл, даже Платон и Сократ — ко второй. Платон и Аристотель, рассуждая о меланхолии, признавали в ней наличие двух разных форм мании (эйфории) или депрессии. Платон, например, отличает «божественную манию» от болезненной («окрыленный сумасшедший», как он говорит в Федре). Немецкий психиатр Хуберт Телленбах в 1961 г. заново открывает две формы меланхолии, создает свою теорию депрессии. Так, он впервые описал «меланхолический тип», специфичный для униполярной формы депрессии, и годы спустя «манический тип», характерный для биполярных форм [3]. Депрессия в переводе с латыни означает подавлять, давить на что-то (от лат. deprimo «давить (вниз), подавить»). Как медицинский термин используется для определения психического расстройства, характеризующегося сниженным настроением, проявляющимся подавленным, угнетенным, тоскливым, тревожным или безразличным состоянием. Сопровождается ангедонией — сниженной или полностью утраченной способностью наслаждаться жизнью и получать удовольствие.
Обычно также присутствуют некоторые из следующих симптомов: сниженная самооценка, потеря интереса к жизни и к привычной деятельности, неадекватное чувство вины, пессимизм, нарушение концентрации внимания, усталость или отсутствие энергии, расстройства сна и аппетита, суицидальные тенденции. Тяжелые формы депрессии характеризуются так называемой «депрессивной триадой»: снижением настроения, заторможенностью мышления и двигательной заторможенностью.
Распознавание депрессивных синдромов затруднено тем, что практически никогда не встречается каких-то признаков, симптомов депрессии, которых мы бы не могли наблюдать у людей с другими, не депрессивными заболеваниями. Симптомы на всех трех уровнях (психическом, психомоторном, соматическом) встречаются не так часто. Среди психических феноменов часто можно увидеть беспричинную тоску, страх, чувство вины, тревогу, чувство неполноценности, безнадежности, заторможенность мышления, нарушения внимания. Среди психомоторных феноменов — апатическую заторможенность, неспособность к принятию решений, потерю интересов. Среди соматических симптомов — расстройство сна, нарушения аппетита, снижение либидо и др. Однако есть и множество других симптомов, за которыми может «маскироваться» депрессия.
Депрессивное страдание, по мнению А. Хольц-хей-Кунц, «уклоняется от понимающего схватывания» [13, с. 246], то есть непонятно, отчего или почему наступает депрессия. Остаются лишь возможности для описания этого страдания, но его причины и происхождение до сих пор непоняты. Х. Телленбах, например, в своей книге «Меланхолия» характеризует так депрессивное страдание: «Это страдание есть страдание эндогенно видоизмененное, чуждое, непонятное, чудовищное, деформированное и, наконец, извращенное» [14].
Болезнь или страдание? Этот вопрос в отношении депрессии поднимает Л. Бинсвангер в Dasein-анализе. В 1933 г. он публикует три работы под названием «О скачке идей», где описывает мир человека со скачущем характером мыслей. Бинсвангер исследует этот «проект мира» маниакального пациента, не исходя из его смыслов, а исходя из его «как» — то есть по всем правилам феноменологического искусства. Маниакально-депрессивный способ быть, хотя и видится Бинсвангеру как «подчиненный норме», но он формулирует этот способ как «уклонение от подлинной способности быть» [13, с. 251]. Есть разница, по мнению Хольцхей-Кунц, двух исследовательских установок, направленных на «как» экзистирова-ния и на «смысл» экзистирования (для чего депрессия?). Впоследствии Бинсвангер меняет свои взгляды на меланхолию, подходя к ней с феноменологической позиции Э. Гуссерля: меланхолия уже понимается как «болезненный симптом», как результат «нарушения трансцендентальных конституций» [13, с. 253]. К сожалению, Бинсвангер начинает рассматривать меланхолию феноменологически как «нарушение», и это, на мой взгляд, отдаляет его от самого феномена меланхолии (депрессии) как переживаемого страдания.
Данная работа направлена на то, чтобы понять два основополагающих феномена депрессии: «как экзистирует» бытие и «для чего экзистирует».
А. Лэнгле в своих работах о депрессии, на мой взгляд, больше отвечает на вопрос «как экзисти-рует» бытие в депрессии. Он понимает депрессию как длительное нарушение соотнесенности с жизнью, как следствие того, что ценность, которую имеет жизнь, не может быть обнаружена и прожита [7, с. 53–82]. Отношения человека с жизнью здесь становятся нарушенными. Тот человек, который пропускает жизнь, не может в нее включиться, как будто и не живет вовсе, не может ощутить «течение» жизни.
Лэнгле считает, что жизнь вводит нас в «отношения с Бытием здесь». Таким образом, влияние жизни заключается в том, что она вводит человека в отношения: «Говоря другими словами: лишь через соотнесение и соотнесённость Бытие здесь становится “жизнью”» [7, с. 53–82]. Эта способность жизни быть в отношениях с «Бытием здесь» возможна, по мнению А. Лэнгле, благодаря трем характерным чертам: через отношения обмена с миром, через изменения и витальную силу. Три этих черты Лэнгле выделяет именно в связи с депрессией. Рассмотрим их более подробно.
-
1. Обмен с миром.
-
2. Изменения.
-
3. Витальная сила.
Человек живой постоянно обменивается с миром — этот обмен существует на уровне питания, например, или на уровне обмена информацией. Чтобы этот обмен с миром произошел, нужен контакт с Другим. Нужно, чтобы и сам человек мог пойти на контакт с другим человеком, но также необходимо, чтобы человек был открыт к контакту, к отношениям с Другим. Эту открытость, готовность к контакту сложно испытывать во время депрессии.
Перемены и изменения, которые есть везде. Жизнь не существует без движения, без перемен. Предпосылкой для перемен и изменений является Время.
Витальную силу автор рассматривает через биологическую витальность (сила организма, способность к самоисцелению и выздоровлению) и психологическую витальность (так называемую
«жажду жизни»). Исследуя психологическую витальность, Лэнгле задает вопрос, важный с точки зрения диагностирования депрессии, «Нравится ли мне жить?»: «Субъективное Нравиться-Жить является, таким образом, выражением витальной радости жизни (психическое измерение), которое первично питается телесным чувством и телесной силой» [7, с. 4]. Вторично чувство витальности, по мнению А. Лэнгле, может происходить из позитивного опыта отношений (особенно отношений с матерью). Витальная сила, сила жизни, тесно связана с понятием Открытости и близости с Другим — в этом источник и наслаждения, радости человеческой жизни, но также и источник ран, боли и разочарований.
Переживание фундаментальной ценности жизни, того факта, что жизнь в целом «хороша» — это то переживание, которого лишают себя люди в депрессии [6, с. 34]. Феноменологический подход Лэнгле к пониманию депрессий заключается в том, что «любой депрессии предшествует дефицит субъективно переживаемых ценностей» [6, с. 35]. Лэнгле утверждает, что для человека в депрессивном состоянии важно уметь «оставлять» и «обращаться»: оставлять позади свои притязания на «великие достижения» и обращаться к простым ценностям жизни — природе, прогулке, встрече с другом, еде, сну. Чувство вины будет требовать «великих достижений», но как раз на них и не хватает сил человеку, испытывающему депрессию. Чувство вины от осознания своего бессилия, своей невозможности достичь чего-то значимого и очень ценного — это чувство вины будет увеличивать депрессию. Одна из моих клиенток с диагностированной эндогенной депрессией постоянно упрекает себя в том, чего она делать не может или делает, но «нехорошо», и совершенно не замечает того, сколько важных и ценных вещей в жизни продолжает она делать (например, работать, ухаживать за животными, общаться с близкими, делать ремонт…).
Утрата ценностей человека в депрессии приводит к ослаблению отношений с жизнью: «Не-удерживаемое отношение с Бытием-здесь выбивает у охваченного депрессией человека почву из-под ног, делает его беззащитным перед последующими «обвалами» и утратами. На пути к потере отношений с жизнью отсутствует какая-либо дамба. Последствием является то, что недостаток отношений становится самостоятельным фактором. Депрессивные чувства генерализируются. Вместе с утратой отношений убывают силы. Человек обессилено смотрит на это бедствие, и ему нечем возразить против него. Не переживает ли он жизнь всё больше как бедную ценностями или даже вовсе лишенную ценностей? Не ловит ли себя на растущем нежелании пускаться в эту жизнь?» [6, с. 42].
Важным представляется анализ возникновения и развития депрессивных переживаний, предложенный Лэнгле: когда случается дефицит ценностей или вообще их утрата, человек переживает «ослабление отношений с жизнью», заключающееся в тяжелых чувствах (апатия, меланхолия) и в дефиците активности («ничего не происходит»). При этом человек, всё более погружаясь в депрессивные переживания, продолжает «держаться» за свои установки о «правильной жизни» (о той, какой она должна быть, что она должна приносить ему). И возникает чувство, что если жизнь не такая, как себе ее рисует человек, какая она должна быть, то это не жизнь. Зачем тогда жить? Ведь жизнь не дала человеку, находящемуся в депрессии, ничего из того, о чем он мечтал (мечтал). Эти идеи Лэн-гле представляются мне особенно важными и для экзистенциального понимания депрессии, и для терапии депрессивных людей. Мне представляется, что депрессивный человек «требует» от жизни того, какой она «должна быть». При этом возникает установка на «я хочу получить от жизни» или «жизнь должна мне». И никак не происходит разворот на то, что я могу «дать» жизни, что я должен ей дать… Виктор Франкл в размышлениях о ценностях и смыслах жизни постоянно и прямо говорит о том, что не человек спрашивает у жизни, а сама жизнь задает ему вопросы. «Пытаясь ответить на вопрос о смысле жизни — на этот самый человеческий из всех вопросов, — индивид вынужден отступить; он должен понять, что это жизнь ставит перед ним вопросы и перед жизнью ему держать ответ» [11, с. 191].
Итак, вопрос «Для чего депрессия?», на мой взгляд, является крайне важным вопросом для конкретного существования в депрессии. К. Г. Юнг, например, сравнивал депрессию с «дамой в черном», которую не нужно прогонять, а напротив, нужно усадить ее напротив себя и выслушать, что она будет говорить (К. Г. Юнг). Виктор Эмиль Фрейер фон Гебзаттель рекомендовал человеку собраться с духом, чтобы пережить депрессию: «Речь идет не о том, чтобы обрисовать страдающему его страдание, а как раз наоборот — представить это страдание как зеркальное отражение его существования, стремящегося в своем безумии к бегству от жизненных проблем» [12, с. 16]. «Зеркальное отражение его существования» — депрессивное страдание здесь видится как отражение существования, и цель этого отражения — «бегство от жизненных проблем». Убежать от жизненных проблем, защититься от них — это мне видится одним из главных феноменов «зачем» депрессивного страдания. Недавняя работа с клиенткой в депрессии помогла нам вместе отыскать смысл депрессивного страдания для нее: депрессия для нее означала отказ от жизни — в какой-то степени суицид, но «не окончательный». Клиентка говорила: «Я спряталась под панцирь, и этим панцирем была депрессия». Таким образом, депрессия уберегала мою клиентку от реального суицида, представляя собой суицид «не окончательный». Депрессия может быть защитой бытия от проблем и трудностей проживания жизни; депрессия означает отказ от жизни, но не позволяет совершить реальный суицидальный поступок, таким образом, защищая существование, здесь-бытие от окончательного, невозвратного поступка. Депрессивное страдание имеет смыслом некоторое послание — в этом отличие от каузального подхода в понимании депрессии. Ответ на вопрос «зачем депрессия» не может быть связан с «причиной» депрессии. Д. Хелл пишет о том, что подобное понимание предполагает понимать депрессию не как расстройство психического аппарата, но как «возможность человека реагировать на внутреннюю или внешнюю проблематику»: «это целесообразный ответ организма, стремящегося избежать худшего и найти защитную нишу в угрожающих социальных отношениях» [12, с. 18].
Но для человека в депрессии очень сложно осознать, что в депрессии есть нечто «целесообразное», потому что депрессивное страдание очень сильно. Однако меланхолия со времен древних греков воспринималась как некий «знак отличия»; в эпоху Возрождения философами также подчеркивалась позитивная сторона «темной ночи души». Сходную мысль высказывает и С. Кьеркегор: «Это мое убеждение, моя победа над миром. Я убежден в том, что человек, не вкусивший горечи отчаяния, еще не познал значения жизни» [12, c. 19]. Д. Хелл считает, что депрессия в таком понимании может быть «многострадальным выходом из безумия» [12, с. 19]. Возможно, Хелл считает, что депрессивное страдание в какой-то степени «защищает» человека от безумия. Мне же видится здесь и такое «зачем депрессия» — это страдание, которое нужно пережить для очищения души, если можно так сказать, для более вы- сокого модуса бытия. Кьеркегор и другие мыслители, поэты пишут о том, что душа возвышается через перенесенное страдание. «Радостей исток лежит в краю печалей» (Р. М. Рильке). Поэтому еще один ответ на вопрос «Для чего депрессия» — для очищения души, для того, чтобы душа стала лучше, возвышеннее, для доброты и светлости духа. Об этом же писал известный российский врач, посвятивший жизнь созданию системы хосписов в России, А. Гнездилов. Сравнивая две группы людей с депрессивными переживаниями (первая группа онкологических больных, находящихся в хосписе; вторая группа здоровых людей, перенесших депрессивную симптоматику и оценивающих себя как «счастливых»), пишет, что эти две группы имели сходные переживания: пациенты хосписа приходили к фазе примирения и принятия реальности, согласия с ней; и здоровые люди с депрессивными переживаниями — тоже. Это было, пишет Гнездилов, «принятием реальной жизни и ее высокого смысла». Автор задает вопрос: «Всегда ли депрессивная симптоматика является патологией, а не этапом на пути к духовному здоровью?»: «Духовность как гармония личности с миром позволяет обретать ценности в самых экстремальных случаях человеческой жизни» [2, с. 56].
Д. Хелл обращает наше внимание на то, что все великие отцы церкви прошли через страдание души и искали опору в этих страданиях. Апостолы Павел и Петр, Блаженный Августин, Лютер — все они, по мнению Д. Хелла, пережили свою «темную ночь души»: «Они пережили свое несчастье как глубочайшую истину» [12, с. 214]. Кьеркегор красиво писал об этом: «все, кто служил необходимому, поначалу испытали давление, которое одновременно придавило, но не уничтожило, а затем высоко подняло их. Но под этим давлением проходила вся их жизнь и под воздействием этого давления их жизнь стала такой, какой она есть сейчас» [12, с. 215].
А. Лэнгле предлагает классификацию видов депрессии. Известные в клинической медицине виды депрессии он рассматривает под «экзистенциальным» углом зрения. Так, он предлагает выделять депрессию, как «защитную реакцию на дефицитную жизнь», депрессию как «психогенное развитие блокады чувств» и депрессию как «эндогенный дефицит витальности». Первый вид депрессии был описан выше — это депрессия, возникающая как реакция на дефицит ценностей, сопровождаемая ощущением того, что жизнь не такая, какая должна быть, что жизнь непра- вильная, не приносящая радость и счастье, «депрессия в связи с жизнью». Второй вид депрессии Лэнгле называет «депрессией в связи с отношениями» — она характеризуется тем, что ценности жизни заблокированы в восприятии человека, он «воздвиг душевный панцирь», который защищает от пережитых обид и разочарований. Этот вид депрессии возникает во многом из-за ран, травматичных ситуаций жизни. И, наконец, депрессия как эндогенный дефицит витальности — это депрессия, возникающая как ответ на то, что у человека не хватает внутренних сил, чтобы «подойти к ценностям и радоваться им». Главное здесь — это слабость, отсутствие сил, энергосберегающая позиция. Чувство вины, понимание того, что это «я не справляюсь с жизнью», — это характерные признаки данного вида депрессий [6, с. 5–56]. На мой взгляд, главное, «для чего» здесь, по мнению Лэнгле, депрессия, это для того, чтобы человек осознал недостаток переживаемых ценностей жизни. И тогда это может быть очередным ответом на вопрос «для чего экзистирует» бытие в депрессии — для осознания дефицита ценностей жизни.
Для людей, переживающих депрессию, многое меняется в жизни. Они действительно живут в другом мире. Некоторые клиенты боятся того, что разучились мыслить — как будто их мышление становится иным: прежняя быстрота мыслей утрачивается, мышление становится медленным. Требуется гораздо больше времени, например, для того, чтобы понять книгу или объяснить другому свои идеи. В состоянии депрессии люди начинают бояться, что «поврежден» их разум: они «поглупели» и не смогут больше ясно мыслить, как раньше. Мысли постоянно «кружатся» возле какой-то проблемы, и человек не может вырваться из этого круга…
Более того, многие люди стараются заставить себя думать, при этом не имея сил на это «думание» [12]. Страх человека с депрессией утратить собственный рассудок очень сильный, добавляющий страдания. Карл Ясперс писал, что «разум не может заболеть», а Артур Шопенгауэр, сам страдавший меланхолией, говорил, что люди тем яснее и болезненнее воспринимают свое состояние, чем более ясно их сознание [12].
«Когда у человека начинается депрессия, он воспринимает свое жизненное пространство как сузившееся», — пишет Дэниель Хелл [12, c. 46]. Меняется и ощущение собственного тела — оно начинает восприниматься как менее живое, менее подвижное. Это лишение одушевленности опи- сывается клиентами как «мое тело словно зарыто под землю», «я чувствую скованность во всем теле, будто я спеленатая мумия — не могу двинуться», «мое тело будто не принадлежит мне, я не ощущаю его так живо, как раньше». Часто клиенты также говорят об огромной «тяжести», о «невыносимом грузе», который они вынуждены нести, сгибаясь под его тяжестью. Это изменение в отношении к собственному телу находит отражение и в высказываниях клиентов, находящихся в депрессии: «я не могу двигаться», «мне трудно что-то делать вообще». Одна из пациенток Д. Хелла писала: «Если я не могу отказаться от заданной работы и стараюсь продолжить ее, чтобы достичь поставленной цели, которая выше моих возможностей, то у меня начинаются ощущения душевной и физической тяжести, боли, доставляющие мне неразрешимые трудности» [12, с. 47]. Так невозможность делать привычную работу, выполнять служебные обязанности доставляет боль, физическую боль человеку с депрессией.
О телесных ощущениях во время собственной депрессии пишет С. Эндрю: «Недавно, выйдя из тяжелой депрессии, в которой мне было не до проблем других людей, я проникся чувствами этого дерева. Моя депрессия нарастала во мне, как лиана завоевывала дуб; эта высасывающая тварь обвивалась вокруг меня, отвратительная, но более живая, чем я сам. Она обладала собственной жизнью, которая капля за каплей всасывала в себя мою. На худших стадиях тяжелой депрессии у меня бывали состояния духа, о которых я точно знал — они не мои: они принадлежали депрессии, и это так же несомненно, как то, что листья на верхних ветвях дуба принадлежали вьющейся твари. Когда я старался это осмыслить, то чувствовал, что мой разум словно скован и не может двигаться ни в каком направлении. Я знал, что солнце всходит и заходит, но его свет почти не достигал меня. Я чувствовал, что сминаюсь под чем-то, что гораздо сильнее меня; сначала мои ноги ослабели в щиколотках, потом я потерял способность контролировать колени, затем от напряжения стала разламываться поясница, наконец, впали в спячку плечи, и кончилось тем, что я свернулся, как эмбрион, напрочь опустошенный этой тварью, которая сокрушала меня, никак не поддерживая. Ее щупальца грозили разрушить мой разум, мое мужество, мой желудок, раздробить мои кости, иссушить мой организм. Она обжиралась мною, даже когда мне уже, казалось, нечем было ее кормить» [10, с. 14].
Еще один феномен, переживаемый депрессивным человеком, — это отношение ко времени. Время представляется «застывшим», «замедленным», «остановившимся» или «куда-то девшимся, утраченным». По мере углубления депрессии клиенты говорят о том, что время тянется очень медленно. Кьеркегор в своих дневниках очень ярко описал перенесенную им депрессию как невозможность сдвинуться с мертвой точки, как «замирание духовной жизни» [14, с. 135]. Телленбах, изучая классическую литературу и философию, пришел к выводу, что многие герои художественных произведений, а также философы страдали от меланхолии (Гамлет, Клейст, Бодлер, Кьеркегор и Ницше). Телленбах заключает, что меланхолия состоит в неспособности направить личностную энергию на творческую работу. «Меланхолия есть мучительное чувство невозможности реализовать свои истинные способности» [14, с. 341]. Одна из моих клиенток с депрессией описывала период переживания депрессии как «время, в котором ничего не происходило»: «Мы (с подругой) просто спали и ели, ели и спали. Часто плакали. Мы не выходили на улицу, мы ничего не делали. Мы просто питались тем, что подворачивалось под руку и постоянно спали… Наша жизнь будто остановилась. Точнее, я вообще не чувствовала, что живу…»
Другая клиентка с диагностированной эндогенной депрессией описывала свое состояние, будто все ее знакомые и друзья едут в поезде, а она стоит на перроне и видит, как вагоны с лицами ее знакомых в окнах проносятся мимо. Она стоит на перроне, одна, она не с ними, не в этом поезде. А они быстро едут мимо нее, они «живут, в то время как я — нет». Время, которое как бы остановилось, время, в котором ничего не происходит, время, когда не можешь делать привычные дела, занимавшие твой день раньше. Эта же клиентка говорит о «невозможности» заниматься ни работой, ни обычными домашними делами: «Я не могу даже приготовить себе еду. Не могу убрать свои вещи, не хочу вставать и заниматься обычными делами…» Когда два рабочих дня она не смогла работать, она сказала: «Я не понимаю, куда эти два дня делись… Я их просто не заметила».
Соломон Эндрю пишет: «Минуты депрессии как века, там какое-то иное, искусственное понятие о времени. Помню, как я лежал окоченевший в постели и плакал, потому что боялся принять душ, и в то же время знал, что душ — это не страшно. Я прокручивал в уме каждый шаг: поворачиваешься и спускаешь ноги на пол; вста- ешь; проходишь отсюда до ванной; открываешь дверь; подходишь к краю ванны; пускаешь воду; становишься под душ; намыливаешься; смываешь пену; выходишь из ванны; вытираешься; идешь обратно к кровати. Всё. Двенадцать шагов, но мне они представлялись остановками по пути на Голгофу» [10, с. 31].
В депрессии человек испытывает огромные сложности в общении с другими людьми. Здесь «намешаны» весьма противоречивые чувства — желание быть с людьми и желание спрятаться от всех, попытки сблизиться с близкими и обвинение близких за то, что они «не понимают мои переживания»… Д. Хелл пишет об одной из своих пациенток: «Бьешься головой о стену, чтобы восстановить отношения, но ничего не получается. Посещения близких превращаются для меня в позор, как пускание газов в присутствии посторонних, а дети кажутся бледными, безликими, нежеланными. Пустота заполняет пространство между мной и моим мужем, и я не могу ее преодолеть» [12, с. 54].
С. Эндрю также пишет об особенностях общения в депрессии: «Окружающие ждут от людей, находящихся в депрессии, что они возьмут себя в руки: в нашем обществе нет места хандре. Супругов, родителей, детей затягивают с собой в бездну, — а им не хочется быть рядом с безмерными страданиями. Из бездны глубокой депрессии никто не может ничего, разве только просить о помощи (и то не всегда), но когда помощь подают, ее нужно еще суметь принять» [10, с. 54]. В общении с друзьям и родными могут появляться зияющие пустоты, провалы. «Кажется, что именно мой друг или родственник должен понять, как я страдаю и как мне плохо». Но здесь опять проявляется «парадоксальная» сторона депрессии — у нее нет видимой причины. Другой не понимает, «ПОЧЕМУ я страдаю». И тогда само «мое страдание» обесценивается, становится как бы «иллюзией», «моей выдумкой», «нестрада-нием». Когда нет видимых причин «моему страданию, как я могу объяснить мужу, жене, отцу, матери, ПОЧЕМУ я страдаю?» Близкие люди могут осуществить много попыток понять человека в депрессии, но как объяснить им, что это «непонятное страдание» может не заканчиваться неделями? Месяцами? А если при этом у нас есть общие обязательства — дети, больные родители, кредиты? Как должен понять муж, чья жена «провалилась в депрессию», что теперь ему на необъяснимо какой долгий срок придется взять на себя заботы по дому, детям и материальному обеспечению семьи? И тогда спутником депрессии становится вина. Н. Мак-Вильямс много пишет о чувстве вины, переживаемом депрессивным человеком в общении с близкими людьми: «Если некто, пережив болезненный опыт сепарации, верит, что именно собственные плохие качества привели к сепарации с любимым объектом, он может очень сильно стремиться к тому, чтобы испытывать только позитивные чувства к тому, кого любит. В таком контексте становится понятно сопротивление депрессивных людей признанию собственной, даже вполне естественной враждебности. Оно, например, проявляется в поведении человека, который остается с абьюзным партнером, считая, что, если бы он сам был достаточно хорошим, то плохое обращение партнера прекратилось бы» [8, с. 159–160].
Депрессивный человек действительно испытывает огромное чувство вины, собственной «греховности». «Плохое случается со мной, потому что я заслужил его» — постоянная скрытая тема депрессивных пациентов.
Эмми ван Дорцен, например, пишет о том, что стремиться к счастью — вовсе не то же самое, что проживать осмысленную жизнь. Негативные переживания, грусть, боль, даже депрессия — это то, что человек должен научиться воспринимать всерьез, как что-то дающее нам ценные уроки в жизни: «…разного рода конфликты, дилеммы и проблемы — всё это неотъемлемая часть условий человеческого существования, и быть живым — означает научиться как-то справляться с ними… избавление от трудностей означает смерть возможностей и творческого начала. Постоянные проблемы и переживания — всё это необходимость нашей обычной жизни, если мы хотим, чтобы она действительно была хорошей» [1, с. 247].
Конечная цель жизни, по мнению ван Дорцен, это не просто счастье, это скорее смысл, чем счастье: «В конечном счете вполне возможно, что мы пытаемся постичь саму жизнь и хотели бы знать и чувствовать, что мы действительно живы, и это для нас является самым важным» [1, с. 246]. Только когда человек решает жизненные проблемы, справляется со своей депрессией или тревогой, только тогда он становится сильным, способным к самостоятельным поступкам, понимающим собственную жизнь: «…для того, чтобы подтвердить собственное бытие, ему должно что-то угрожать» [1, с. 247]. Тогда человек начинает жить смело, и ровно тогда он и может почувствовать себя по-настоящему живым. Чувство бытия, или опыт «Я есть» по Р. Мэю является, как мне видится, предпосылкой для появления этого чувства «настоящей жизни» [9].
Заключение
Понимание депрессии почти всегда носит медицинский характер. Распространенность депрессивных расстройств в настоящее время определяет и проблемы, связанные с этим: повальное назначение антидепрессантов, понимание депрессии как болезни, требующей лечения медикаментами, и недостаток внимания к определению своей роли в создании депрессивного страдания. Разделенность (изоляция) людей между собой и отсутствие человеческой поддержки — тепла и участия — усугубляют депрессивные состояния современного общества.
С экзистенциальной точки зрения, депрессия не является болезнью, это не душевная болезнь, но душевное страдание, страдание души. Депрессия — это особый способ бытия, особый способ проживания жизни, особые отношения с жизнью, наполненные страданием и болью. Эти особые отношения с жизнью сами по себе ценны, потому что показывают нам, что продолжать жить так, как мы жили до сих пор, больше нельзя. Депрессия — это призыв жить по-другому. Призыв сделать всё, чтобы, несмотря на страдания, начать жить по-другому. Вступить в отношения с другими людьми, увидеть по-новому смыслы и ценности жизни.
Данная работа была направлена на исследование того, как существует человек в депрессии, для чего человеку дана депрессия. Были рассмотрены взгляды А. Лэнгле, Эмми ван Дорцен, А. Кемпински, Н. Мак-Вильямс, В. Франкла, Д. Хелла, А. Хольцхей-Кунц, Л. Бинсвангера, Х. Телленба-ха. В основной части предлагается понимание депрессии, по Лэнгле, как длительного нарушения соотнесенности с жизнью, как следствия того, что ценность, которую имеет жизнь, не может быть обнаружена и прожита. К ослаблению отношений с жизнью приводит утрата ценностей человека в депрессии. У человека, переживающего депрессию, изменяются восприятие тела и пространства; восприятие времени; взаимоотношения с собой и другими людьми.
Депрессия может быть защитой бытия от проблем и трудностей проживания жизни. Депрессия может означать отказ от жизни, но не позволяет совершить реальный суицидальный поступок. Многие философы и поэты пишут о ценности депрессии для очищения души, для того, чтобы душа стала лучше, возвышеннее. Депрессия также может быть важной для осознания дефицита ценностей жизни.
Теплый и искренний контакт с клиентом в депрессии — это та основа, без которой экзистенциальная терапия депрессии невозможна. Боль, грусть, депрессия, тяжелая ноша душевных страданий — неотъемлемая часть человеческой жизни. Тяжести человеческого бытия делают человека сильнее, мудрее, способнее к осуществлению самостоятельной жизни, человечнее. Чувства вины и гнева — часть феноменологической картины депрессии; чтобы справиться с депрессивным страданием, эти чувства должны быть опознаны и поняты. Понимание «авторства» своей жизни ведет к пониманию того, что и депрессивная картина мира — это та картина, которую написал я сам. Депрессивному страданию противостоит способность человека отдавать себя другому — тем самым самотрансцендироваться от своего страдания.
Терапевтическая помощь человеку в депрессивном страдании — это почти что гомеопатическое
«лечение», то есть «лечение» подобного подобным. Смерть, судьба, смыслы, ценности — настоящие важные философские вопросы — именно эти вопросы беспокоят человека в депрессии, и они же способны вернуть его к жизни. В чем смысл депрессивного страдания и как переживает депрессивное страдание человек — на эти вопросы мы пытались найти ответы в данной работе. Завершим ее отрывком из романа «Настоящий любимец судьбы» А. Штеффена, который приводит О. Кооб: в романе герой встречается с неким человеком, кто, находясь в гуще городской, насквозь испорченной жизни, в «аду», по мнению автора, смог сохранить себя и не пострадать от всеобщего морального разложения: «“Зачем Вы здесь, в этом опасном месте?” — спросил Артур. “Затем, что здесь, по-моему, обязательно должен быть кто-то испытывающий отвращение. Мысль о том, что для нашего времени необходимо отвращение, пришла мне несколько дней назад… Отвращение необходимо, чтобы правильно понять мир, чтобы прийти к духу внутри нас, чтобы защитить в себе Бога…”» [цит. по Кооб, с. 98].
Список литературы Экзистенциальный взгляд на депрессию
- Ван Дорцен Э. Психотерапия и поиски счастья. М.: ИОИ, 2017. 296 с.
- Гнездилов А. Анализ случаев депрессий, не поддающихся психофармакологическому лечению // Экзистенциальная традиция: философия, психология, психотерапия. 2005. №1. С. 54-56
- Доерр-Зегерс О. Тревога, меланхолия и творчество: случай поэта Р.М. Рильке // Независимый психиатрический журнал. 2000. №1. С. 5—12.
- Кемпински А. Меланхолия. СПб.: Наука. 2002. 405 с.
- Кооб О. Темная ночь души. Пути выхода из депрессии. М.: Просветительский цикл «Эвидентис», ООО «Добрая книга». 2002. 208 с.
- Лэнгле А. Дотянуться до жизни. Экзистенциальный анализ депрессии. М.: Генезис. 2020. 128 с.
- Лэнгле А. Экзистенцанализ депрессии. Возникновение, понимание и феноменологический подход к лечению // Московский психотерапевтический журнал. 2006 , № 48,Т.1, 2006. – С. 53-82.
- Мак-Вильямс Н. Психоаналитическая диагностика. Понимание структуры личности в клиническом процессе. М.: Независимая фирма «Класс», 2001. 480 с.
- Мэй Р. Открытие бытия. М.: Институт Общегуманитарных Исследований. 2004. 224 с.
- Соломон Э. Демон полуденный. Анатомия депрессии. М.: Добрая книга. 2004. 672с.
- Франкл В. Человек в поисках смысла. М.: Прогресс. 1990. 368 с.
- Хелл Д. Ландшафт депрессии. Интегративный подход. М.: Алетейа, 1999. 280 с.
- Хольцхей-Кунц А. Страдание из-за собственного бытия: Дазайн-анализ и задача герменевтики психопатологических феноменов. Вильнюс: «Логвинов», 2016. 312 с.
- Tellenbach H. Melancholy: History of the Problem, Endogeneity, Typology, Pathogenesis, Clinical Considerations. Pittsburgh: Duquesne University Press. 1980. 250 p.