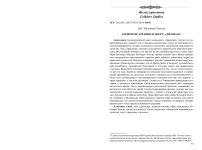Элементы архаики в эпосе "Джангар"
Автор: Убушиева Данара Владимировна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Фольклористика
Статья в выпуске: 4 (51), 2019 года.
Бесплатный доступ
Багацохуровский цикл калмыцкого «Джангара» состоит из сюжетообразующих ядерных тем и мотивов архаического эпоса. В настоящей статье рассматриваются мотивы поглотителя, исцеления, магической неуязвимости, души вне тела, управления стихиями, восходящие к архаическим обрядам и ритуалам. Исследование выявило, что многие из них манифестируются в цикле через образ богатыря Хонгора. Богатырь Хонгор, пройдя полный цикл обряда инициации -изоляция (его проглатывает огромная рыба таймень), временная смерть (во вражеской стране над Хонгором совершают ритуал отправления в иной мир), воскрешение (Джангар-хан извлекает его из брюха рыбы и исцеляет чудодейственный снадобьем), -приобретает бессмертие и получает власть над природными стихиями. Бессмертие богатыря Хонгора объясняется тем, что его душа находится вне его тела. Наиболее развернутое описание бессмертия выявлено в изображении противника, где душа вне тела имеет указание на ее местонахождение и, более того, демонстрирует последовательные вложения (на горе, под деревом, в чреве маралихи, в золотом детеныше - жизнь его). Управление природными стихиями, в частности, призывание дождя посредством заклинания или с помощью магического камня «задэ», демонстрируют ритуальные практики, основанные на магических способностях людей. Согласно верованиям древних, человек мог контактировать с духами-хозяевами природы, а значит, и влиять на природные стихии. Архаические обряды и ритуалы, транслируемые через образ богатыря Хонгора, отражают добуддийские представления о картине мира калмыков, тем самым подтверждая, что песни Багацохуровского цикла основаны на ядерных мотивах архаического эпоса предшествовавшей традиции.
Эпос "джангар", ядерные мотивы, обряд инициации, богатырь хонгор, мотив поглотителя, мотив исцеления, магическая неуязвимость, душа вне тела, управление стихиями
Короткий адрес: https://sciup.org/149127237
IDR: 149127237 | DOI: 10.24411/2072-9316-2019-00091
Текст научной статьи Элементы архаики в эпосе "Джангар"
Багацохуровский цикл калмыцкого «Джангара», несмотря на принадлежность к героическому типу эпоса, состоит из сюжетообразующих ядерных тем и мотивов архаического эпоса, например, космогонических мотивов или темы богатырского сватовства.
В настоящем исследовании предлагается рассмотреть архаические мотивы, берущие начало в обрядах, поскольку «многие мотивы только через сопоставление с обрядами получают свое генетическое объяснение» [Пропп 2004, 10]. Предварительное изучение материала выявило, что многие архаические мотивы цикла манифестируются через образ богатыря Хонгора.
Исключительность и древность мотивов, связанных с образом богатыря Хонгора, не раз отмечалась исследователями. А.Ш. Кичиковым рас-
** The paper was prepared within tire framework of tire research work of the Kalmyk Scientific Center of tire Russian Academy of Sciences “Oral and written heritage of tire Mongolian peoples of Russia, Mongolia and China: transboundary traditions and interactions” (State registration number AAAA-A19-119011490036-1).
смотрена женитьба Хонгора в цикле сказителя Ээлян Овлы как ядерное образование «тууль-улигерного» (архаического) сюжета эпоса [Кичиков 1997, 215-219]. С.Ю. Неклюдовым проведена параллель имени Хонгор с именами героев архаических сказаний алтайцев (Конгырджан) и тувинцев (Конгар). Описана возможная трансформация образов Джангара и Хонгора из образов брата и сестры архаической сказки «Янгысак и Конгырджан», при этом отмечается, что «смена “гендерного амплуа” вполне возможна у фольклорно-эпического персонажа» [Неклюдов 2019 а, 224-227], где «взаимозаменяемость» объясняет «свободное распределение сюжетных ролей между ними (например, спасать может и Хонгор Джангара, и Джангар Хонгора), а также явственное преобладание в цикле именно этих двух персонажей...» [Неклюдов 2019 а, 228].
В Багацохуровском цикле «Джангара» богатырь Хонгор демонстрирует особую роль, которая также содержит глубоко архаические корни. Одним из архаических мотивов в сюжетах «Джангара» является мотив «поглощения и выхаркивания» (определение В.Я. Проппа), или мотив «Ы10. Поглотитель» [Березкин, Дувакин]. Данный мотив имеет широкое распространение в мировом фольклоре и восходит к инициальным обрядам. «При этом инициация осмысляется как смерть и новое рождение. Отсюда важнейшая в героических мифах и волшебных сказках воспроизводящая ритуальную схему инициации часть сюжета - испытание, которым герой подвергается в царстве мертвых или на небе, или в другой стране, населенной злыми духами, чудовищами и т.п. С этим же связан мотив проглатывания героя чудовищем (изначально тотемным животным) с последующим его освобождением из брюха чудовища, также отраженный сказкой и мифом <...>» [Левинтон 1987, 544].
Обряд инициации, как и родильный, свадебный, похоронный, является переходным, общая схема которых «представлена тремя основными блоками: изоляция объекта, его разрушение (“временная смерть”) и трансформация (“возрождение”), возвращение объекта в коллектив в новом статусе» [Новик 1984, 163].
На наш взгляд, аналогичная схема отражена в песне «О Хара Кинесе» Багацохуровского цикла. Во вражеском владении Хара Кинеса богатыря Хонгора отдают на съедение огромной рыбе (изоляция), при этом совершив похоронный обряд (временная смерть), затем происходит трансформация (рождение после временной смерти).
Противники, не сумев умертвить богатыря Хонгора, отдают его на съедение огромному черному тайменю. В данном случае таймень является животным-поглотителем. Зашивание богатыря Хонгора в шкуры трех быков есть не что иное как отправление в иной мир. Так в древности поступали с умершими, их зашивали в шкуры быков или коров, таким образом, совершая ритуальный обряд захоронения. В.Я. Пропп отмечает, что данный обычай чаще встречается у народов, непосредственно занимающихся скотоводством [Пропп 2004, 174]. Извлечение богатыря из чрева рыбы в Багацохуровском цикле немного отступает от классического раз- вития мотива. Джангар-хану не приходится вспарывать брюхо рыбы, она сама выхаркивает трехслойный щулул/ (‘мешок’) из шкур трех взрослых быков, в котором находился богатырь Хонгор: II песня Багацохуровско-го цикла (далее - Б.Ц.) - 34 (10) saryal cayan dalai koboled irebe: irekuleni zun alda utu: zuryan (11) tebere bodtin amurgin xara curaxa: altan dalayin ko-bodii aman angyayad amisaxaji (12) kebetenei: kultiq moren xayaji orkod: koko zandan arman xadaxaji orkod: (13) altatu misilen suyulad: gtiji ired: amurgin xara curaxagi: alaxu sanayar (14) irebe: aman angyayad xad bOljid orkuxularan: nastai yurban caran arsu dabxarlaqsun (15) tulum bOljiji xayaba: amurgin xara curxa biyeni: altan tungyiiluq dalai Odon bul- (16) xad orod odba [PO БВФ СПбГУ, Calm. C. 17, 34] (Прибыл он к берегам океана Саргал Цаган. / Прибыв [видит] / Длиною в сто саженей, / Толщиною в шесть обхватов, / Огромный черный таймень / На берегу золотого океана / Лежит, раскрыв рот тяжело дышит. / Бросив своего коня, / Воткнув свое синее сандаловое копье, / Достав золотую саблю, подбежал, / Огромного черного тайменя / С намерением убить, / Когда (таймень) раскрыл рот и изрыгнул, / Свернутый из шкур трех взрослых быков / Тулум выбросив из себя, / Сам огромный черный таймень / В прозрачно-золотой океан / Нырнул и скрылся. - Здесь и далее перевод автора статьи, Д.В. Убушиевой).
Кульминацией обряда становится мотив исцеления богатыря. Цикл демонстрирует классическое исцеление снадобьем, совершаемое мужчиной [Неклюдов 2019 а, 74-75]. Джангар-хан извлекает Хонгора из мешка бездыханным, но посредствам чудодейственного лекарства исцеляет его: II песня Б.Ц. - 34 (21) aldar noyon boqdo jangyarani adistei burxani xayirilaqsun ariun cayan (22) emen aman xamar xoyortuni asaxan ked: aqcim zura edgeged abai: [PO БВФ СПбГУ, Calm. C. 17, 34] (Славный нойон богдо Джангар, / Благословенным бурханом дарованное / Священное белое лекарство, / В рот и нос (Хонгора) всыпал, / Ив миг исцелил его).
Исцеление есть воскрешение - кульминация цикла инициации. Таким образом, богатырь Хонгор проходит полный цикл обряда посвящения.
Другим архаическим мотивом, также берущим свое начало в обряде, является мотив магической неуязвимости. Магическая неуязвимость довольно часто встречается в фольклоре - как в сказках, так и в героическом эпосе. В эпосе одним из проявлений магической неуязвимости богатыря, является его внешняя душа - мотив «K15D. Жизнь хранится вне тела» [Березкин, Дувакин].
Дж. Фрэзер отмечает, что «душа, по мнению первобытных людей, может временно отлучаться из тела, которое, тем не менее, продолжает жить. Преимущество в данном случае заключается в том, что, пока душа пребывает в безопасности, самому человеку гарантировано бессмертие: ведь его жизнь пребывает вне тела и ничто не в силах ее разрушить» [Фрэзер 1980, 741]. Наиболее подробно данный мотив рассмотрен на материале тюркского эпоса В.М. Жирмунским, который отмечает, что «герой или его чудесный противник (великан, волшебник и т.п.) неуязвимы для оружия, а следовательно, бессмертны, потому что их души хранятся в потаенном ме- сте» [Жирмунский 1974, 244]. А.Ш. Кичиков, рассматривая мотив неуязвимости в контексте исключительности эпического героя, также отмечает древность данного мотива: «Эти качества богатырей “Джангара” - эпоса героико-исторического типа - не могут иметь рациональной мотивировки в пределах данной традиции, и лишь обращение к архаическому эпосу, к образам древних чудеснорожденных героев, с которыми генетически связаны образы богатырей эпоса новой формации, проливает свет на эти мотивы» [Кичиков 1997, 5].
Во многих эпических системах бессмертие проявляется при наречении богатыря именем, к примеру, как в алтайском эпосе: «Старуха благословила хана (алкан): «Нет души умереть, нет годов стариться! Нет крови, краснея, пролиться. Плечистый чтоб не схватил, пальчатый чтоб не словил, щекастый чтоб не оговорил. Достигай, куда направился, побеждай, на кого осердился. Не я благословляю тебя, а благословляет бог на небе. А имя твое Алтын-Мизе» [Аносский сборник 1915, 72].
В текстах Багацохуровского цикла не обнаружено аналогичного описания, но само бессмертие, в частности, богатыря Хонгора, напрямую объясняется тем, что его душа находится вне его тела: II песня Б.Ц. - 14 (31) alaji yadad orkosun amini biyideni ugei asar ulan xongyor gedeq batur (32) bayidaq bolnai [PO БВФ СПбГУ, Calm. C. 17, 14] (Никем не сраженный, / В теле которого нет души, / Исполин Алый Хонгор, / Здравствующий богатырь).
Е.М. Мелетинским замечено, что «представление о неуязвимости богатыря, генетически восходящее к образу “внешней” души, большей частью уже выступает как метафорическое выражение непобедимости героя, в то время как у его противников - полумифических чудовищ - эта “внешняя” душа далеко запрятана, и, чтобы умер уже побежденный в бою противник, богатырь (иногда его чудесный помощник или побратим) должен найти и уничтожить эту душу» [Мелетинский 2004, 348].
Данный тезис полностью подтверждается на материале Багацохуровского цикла. Цикл не сохранил эпизодов, где бессмертие обозначилось бы во время имянаречения богатыря, не оговаривается и местонахождение души в отношении героя эпоса. Относительно противника напротив, мотив «Е15Н. Душа вне тела: последовательные вложения» [Березкин, Дува-кин] получает полное описание, с указанием местонахождения его внешней души: III песня Б.Ц. - 39 (4) naran yarxuin бтпб zuq dedii deben gedeq ulan bayidaq bolnai: (5) yazarinini xoloni tabunjile jiberleren tatad ugei: tarlang koko coxor nacin tabilxata (6) ulan bel dereni meng yuyan mengned: odo yuyan sergeged nisktini: zuran zun (7) nayman xonoji kuriisi ugei yazar gene: tere ulan oro dereni altan bindariyn onggo- (8) tei arban sayixan zandan modun ktirelen uruyuqsan: moduni dotoroni yurban onggo ceceger (9) ktireleqseni dotoroni sara ulan koko yurban altan maral: dunduki maraliyin dotoroni yurban (10) altan zulzuyun bayinei gene-le: amini tere gene ayuxu metu mangyus xan amini beyedtini (11) ugei gene [PO БВФ СПбГУ, Calm. C. 17, 38] (К югу от восхода солнца / Есть гора Дэдэ Дэвян, / Расстояние до нее - пять лет. / Не раскрывавший крылья свои, / Крапчатый, сиво-пестрый сокол / На склоне горы с таволгой, / Добычу свою стережа, / Полетит, освежив свои перья, / По пути сто восемь раз заночует / И все равно не достигнет, такая далекая земля, говорят, / На вершине той горы / Цвета золота и бирюзы / Десять прекрасных сандаловых деревьев / Кругом выросли. / Среди деревьев / Цветы трех цветов кругом выросли. / Внутри желтый, красный и синий. / Золотые маралы / В чреве средней маралихи / Три золотых детеныша, говорят, / Это жизнь его, говорят, / Страшный Мангас хан / В теле его нет души, говорят).
Хранение мангасом своей души в детенышах маралихи, которые к тому же находятся на горе, до которой трудно и практически невозможно добраться, есть не что иное, как выражение древнего представления о тотемных животных. Как в эпосе, так и в обрядах симпатические узы связывают человека не только с неодушевленными предметами и растениями, но и с животным миром. «Благополучие одного находится в зависимости от благополучия другого, и смерть животного влечет за собой смерть человека» [Фрэзер 1980, 758].
Еще одним проявлением архаических корней Багацохуровского цикла является умение эпического героя управлять стихиями. Трансляция таких исключительных качеств в эпосе также возложена на богатыря Хонгора.
Древние сказители владели информацией о магических ритуалах взывания к духам природы, которыми и наделяли героев эпических сказаний.
В Багацохуровском цикле данные ритуалы описываются в контексте пыток, которым подвергается богатырь Хонгор, который ни в огне не горит, ни в воде не тонет: II песня Б.Ц. - 29 (17) bosxoji (18) abad: ulan yaliyigi obolji tilled: teyleyelji killed dotoroni xaiaxulani: (19) dereseni deberin dilngge delben koko Ulen dere yarci ired: xura mondor (20) salkin yilrbagi deqce billyad unturayad orkonai: tUneseni bosxoji abad: (21) kiyittln xara tenggesiyin usun dotoro zun iikiirin dilngge xara cilu biyesilni (22) uyad: xayad oruxuni: xoltusun kebtei kObOd yarani: alji yadaba gekUgi (23) sonsoba bida [PO БВФ СПбГУ, Calm. C. 17, 29] (Подняли его, / Развели огромный красный костер, / Стянули, связали. / Когда бросили во внутрь (в огонь), / Сверху, величиною с покрывало (войлочной кибитки) / Над ним появилась темно-синяя туча. / Дождь, град и снег / Разом пошли и погасили пламя, / Снова подняли его / В воды холодного черного океана. / Величиной с сотню быков / К черному камню привязав его, / Попробовали бросить -/ Всплывает, словно кора. / Слышали мы, что не удалось его убить).
Приведенный эпизод иллюстрируют древнюю ритуальную практику, основанную на магических способностях людей. Согласно верованиям древних, человек мог контактировать с духами-хозяевами природы, а значит, и влиять на природные стихии.
Богатырь Хонгор вызывает дождь не только в момент непосредственной угрозы его жизни, как, например, сжигание на костре, но и для облегчения преодоления пути. В песне «О Хара Кинесе» он вызывает дождь с помощью магического заклинания, произнесенного над пригоршней земли: II песня Б.Ц. - 19 (24) xurdun (25) kokOn: xurdun silrUger yabad: baron doro dorosiln sUred adxa (26) dilngge cayan soroi komolji abad: adistu boqdon gegeni zaqsun arban eke- (27) tei doqsin burxani ziireken tarniyigi yurba ussad yurba tileged oqtor- (28) yudu cacaba: cacasun daruni dereni deberiyin dtingge delben koko dien (29) cuqlurad irebe: erdeni biligiyin xura ergen daxaji orba: kudrir samban (30) salkin kuliiq moriniyinin kungkiirekeduni seriger tataba [PO БВФ СПбГУ, Calm. C. 17, 19] (Пустил вскачь своего резвого Кёке, / Из-под правого стремени схватил, / Пригоршню белой пыли схватил на ходу, / Благословенным богдо-гегеном указанное / Десяти грозных бурха-нов / Трижды прочитав грозное заклинание, / Трижды подул и подбросил к небу / Сразу после этого / Сверху величиною с покрывало (войлочной кибитки) / Собрались налившиеся синие тучи. / Чудодейственный дождь, / Следуя за ним, пошел. / Могучий Самбайский ветер / Богатырского коня / Освежил грудь).
Горсть «белой земли», используемая богатырем Хонгором, на наш взгляд, является своеобразной интерпретацией мотива магического камня «задэ», применяемого в обрядовой практике «призывания ненастья».
Обладателями магического камня являются не только богатыри Джан-гар-хана, но и их противники: III песня Б.Ц. - 39 (13) arban arbas tarani nomtei gene: kiten xara zadatei gene: doq- (14) sin sara mangyus xani kribUni dungsur gerel gedeq mangyus gene [PO БВФ СПбГУ, Calm. C. 17, 39] (Десятью могучими заклинаниями обладающий, / Имеющий черный камень-за-да / Сын свирепого Шара Мангас хана / Мангас Дунгсур Герел, говорят).
Дж. Фрэзер приводит множество примеров, когда камень играет самую главную роль при проведении ритуала вызывания дождя у самых разных народов. «Нередко встречается мнение, что камни обладают способностью вызывать дождь при условии, что их обмакивают в воду, обрызгивают водой и вообще обращаются с ними надлежащим образом» [Фрэзер 1980, 91]. Эти же магические свойства камня отмечены А.Ш. Кичиковым и в калмыцких сказках: «<...> в калмыцких богатырских сказках подобным же образом вызывается снежная буря, вынуждающая сесть воробья -душу врага» [Кичиков 1976, 24].
Данный ритуал вызывания дождя присутствовал и в обрядовой практике калмыцких задчи. «Ритуал вызывания дождя у калмыков называется “szad ba’rx” - вызывать дождь с помощью камня. Людей, исполнявших этот обряд, называли задчи, они пользовались огромным почетом и уважением. Один из множества способов вызывания дождя у калмыков выглядел следующим образом - камень кладут в чашку с водой и многократно взбалтывают. Это, по их мнению, должно способствовать собиранию грозовых туч» [Борджанова 1999, 37-38]. Современное состояние ритуала «моления о дожде» среди монгольских народов и его трактовка дана С.Ю. Неклюдовым [Неклюдов 2019 Ь, 434-446].
Таким образом, рассмотренные мотивы поглотителя, магическая неуязвимость, призывание дождя демонстрируют, что, пройдя полный цикл обряда инициации, богатырь Хонгор приобретает свои исключительные возможности - бессмертие и власть над природными стихиями. Архаические обряды и ритуалы, транслируемые через образ богатыря Хонгора, отражают добуддийские представления о картине мире калмыков, тем самым подтверждая, что песни Багацохуровского цикла основаны на ядер-ных мотивах архаического эпоса.
Список литературы Элементы архаики в эпосе "Джангар"
- Березкин Ю.Е., Дувакин Е.Н. Тематическая классификация и распределение фольклорно-мифологических мотивов по ареалам. Аналитический каталог // Фольклор и постфольклор: структура, типология, семиотика. URL: https://ruthenia. ru/folklore/berezkin/ (дата обращения 20.10.2019).
- Борджанова Т.Г. Магическая поэзия калмыков: исследование и материалы. Элиста, 1999.
- Жирмунский В.М. Тюркский героический эпос. Избранные труды. Л., 1974.
- Кичиков А.Ш. Героический эпос "Джангар". Сравнительно-типологическое исследование памятника. М., 1997.
- Кичиков А.Ш. Исследование героического эпоса "Джангар": Вопросы исторической поэтики. Элиста, 1976.
- Левинтон Г.А. Инициация и мифы // Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2 т. Т. 1 / под ред. С.А. Токарева. М., 1987. С. 543-544.
- Мелетинский Е.М. Происхождение героического эпоса: ранние формы и архаические памятники. М., 2004.
- (a) Неклюдов С.Ю. Фольклорный ландшафт Монголии. Эпос книжный и устный. М., 2019.
- (b) Неклюдов С.Ю. Фольклорный ландшафт Монголии. Миф и обряд. М., 2019.
- Новик Е.С. Обряд и фольклор в сибирском шаманизме: опыт сопоставления структур. М., 1984.
- Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. М., 2004.
- Фрэзер Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. М., 1980.