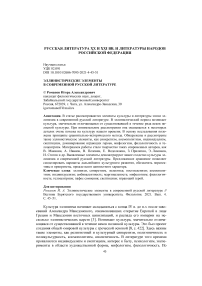Эллинистические элементы в современной русской литературе
Автор: Романов Игорь Александрович
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Филология @vestnik-bsu-philology
Рубрика: Русская литература XX и XXI вв. и литературы народов Российской Федерации
Статья в выпуске: 4, 2021 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются элементы культуры и литературы эпохи эллинизма в современной русской литературе. В эллинистический период возникает культура, значительно отличающаяся от существовавшей в течение ряда веков полисной культуры. При внимательном рассмотрении она оказывается в некоторых деталях очень похожа на культуру нашего времени. В основу исследования положены принципы сравнительно-исторического метода. Обнаружены и рассмотрены такие эллинистическое элементы, как синкретизм, космополитизм, индивидуализм, скептицизм, доминирование играющих героев, мифологизм, филологичность и телоцентризм. Материалом работы стало творчество таких современных авторов, как B. Маканин, А. Иванов, В. Пелевин, Е. Водолазкин, З. Прилепин, Э. Лимонов, И. Стогов и др. Выявленные элементы демонстрируют явное сходство культуры эллинизма и современной русской литературы. Предложенное сравнение позволяет смоделировать варианты дальнейшего культурного развития, обозначить перспективы и приоритеты, прежде всего ценностного характера.
Эллинизм, синкретизм, эклектика, постмоденизм, космополитизм, индивидуализм, амбивалентность, маргинальность, мифологизм, филологичность, телоцентризм, пафос сомнения, скептицизм, играющий герой
Короткий адрес: https://sciup.org/148324328
IDR: 148324328 | УДК: 82.091
Текст научной статьи Эллинистические элементы в современной русской литературе
Романов И. А. Эллинистические элементы в современной русской литературе // Вестник Бурятского государственного университета. Филология. 2021. Вып. 4. С. 45‒51.
Культура эллинизма начинает складываться с конца IV в. до н.э. после завоеваний Александра Македонского, ознаменовавших открытие Европой в лице Греции и Македонии восточных цивилизаций, и распада его империи на несколько эллинистических царств [3]. Возникает культура, значительно отличающаяся от существовавшей в течение веков полисной культуры. Это был проект создания общей «мировой культуры с греческой основой [8, с. 422]. Здесь важны такие элементы, как религиозный и культурный синкретизм, полиэтничность и поликультурность, космополитизм, аполитичность. В литературе того времени проявляются индивидуализм и скептицизм, интерес к быту, психологизм, эксперименты в области художественной формы, мифологизм, филологичность. По сути, искусство перестает быть «идеациональным», переходя в статус «чувственной» [9]. Некоторые из этих тенденций, как представляется, в значительной степени соответствуют современной постмодернистской матрице.
Во-первых, эллинистический синкретизм вполне можно соотнести с постмодернистской эклектикой. Критик А. Ганиева, рассматривая произведения современных авторов, приходит к выводу о том, что в их творчестве проявляются черты самых разных художественных систем: модернизма и постмодернизма, барокко и необарокко, романтизма и натурализма. Причем все это «уживается во вполне себе реалистическом герое» [1, с. 14]. В литературе советского периода это было просто немыслимо. Одним из наиболее ярких примеров в этом смысле является проза В. Маканина 1990–2000-х гг. В его романах соединяются постмодернистская интертекстуальность, модернистский поток сознания и реалистический хронотоп. В «Андеграунде, или Герое нашего времени» описаны в деталях реалии 1990-х (коммерциализация, обнищание интеллигенции, приватизация, разгул криминала), в романе «Испуг» все вращается вокруг событий октября 1993 г., в «Асане» представлено авторское видение событий второй чеченской войны.
Во-вторых, культурная открытость , пришедшая вместе с перестройкой, привела к потере актуальности противопоставления литератур метрополии и русского зарубежья. Современные писатели, по сути, открывают для себя другие страны и цивилизации. В нынешней реальности уже неважно, где живет автор, главное то, что он создает тексты на русском языке и печатается в России. За рубежом живут такие писатели, как М. Шишкин, Д. Рубина, Б. Акунин, П. Барскова, Б. Кинжеев, С. Болмат. Другие литераторы получили возможность путешествовать за границей, выступать там с лекциями, участвовать в работе научных и писательских конференций: Д. Быков, В. Пелевин, В. Ерофеев, Е. Рейн и другие. Это похоже на реализацию эллинистической модели космополитизма , когда человек, не теряя своей национальной идентичности, становится «гражданином мира».
В-третьих, сущностной чертой современной русской литературы становится индивидуализм. Современные писатели давно распрощались с коллективистскими иллюзиями соцреализма. Героев их произведений волнуют прежде всего личные проблемы, присущая обществу советского периода «гиперсоциальность» оборачивается «квазисоциальностью» [11]. На этом фоне реализуется метасюжет современной литературы, где герой-индивидуалист, которому не на кого надеяться и не на кого перекладывать ответственность, пытается во что бы то ни стало отстоять свою личность. Традиция создания подобного героя заложена произведениями Э. Лимонова, Вен. Ерофеева, С. Довлатова. В современной литературе данная традиция продолжается образами главных героев А. Иванова (Служкин из «Географ глобус пропил» и Моржов из «Блуда и Мудо»), В. Маканина (Петрович из «Андеграунда…» и майор Жилин из «Асана»), Е. Водолазкина (Иннокентий Платонов из «Авиатора»), персонажами произведений И. Стогова, С. Минаева, Р. Сенчина и др. Даже если у героя есть некие общественные или политические устремления, которые он, не жалея ни себя, ни других, реализует, то отстаивает он узкие корпоративные или партийные интересы. Таков, например, главный герой романа З. Прилепина «Санькя».
Доминирующими качествами подобного героя являются амбивалентность и маргинальность . Здесь уместно будет вспомнить героев Ф. Достоевского, внешне похожих на персонажей современной прозы. И в первую очередь, героев «Записок из подполья». Как и текст Ф. Достоевского, многие произведения современных авторов написаны от первого лица. У В. Маканина в романе «Андеграунд, или герой нашего времени» прямая отсылка к «Запискам из подполья» звучит уже в названии. Авторское «я», через которое проявляется индивидуализм, создает эффект исповеди, в которой герой стремится выглядеть абсолютно честным, в первую очередь, перед самим собой, поэтому в текстах зачастую появляются эпизоды, дискредитирующие его. В подобной манере, иногда напоминающей дневник, созданы произведения не только В. Маканина, но многих других писателей: И. Яркевича, Р. Сенчина, В. Орловой, О. Зоберна, С. Минаева, И. Стогова, А. Снегирева. Данная тенденция приводит, правда, к тому, что тексты зачастую превращаются в «дневниковые ремиксы под видом художественной литературы» [6, с. 25].
В-четвертых, в литературе с конца 80-х гг. ХХ в. начинает доминировать пафос сомнения [4, с. 13], созвучный эллинистическому скептицзму . Герой-индивидуалист не видит в окружающей реальности того, что может оправдать его существование, эта реальность отвергается прежде всего на аксиологическом уровне: для него не существует высших ценностей и надличностных смыслов, способных одухотворить мир. Показательны в этом смысле герои романа «Сань-кя» З. Прилепина. Они готовы драться с полицией, подставлять себя под удары дубинок, даже убивать. Причем понятно, против чего они выступают, но абсолютно не ясно, за что . Неспособность даже «антилиберального», «имперски» настроенного писателя проартикулировать положительную программу явно указывает на отсутствие четкого, концептуально осмысленного видения будущего страны.
В-пятых, десакрализация реальности меняет онтологический статус человека и литературного персонажа. Все, что с ним происходит, уже не результат божественного промысла, провидения или реализация некоего «плана бытия», а просто стечение непонятных обстоятельств. Недаром в текстах авторов последних двух-трех десятилетий увеличивается роль случая [4]. Как пишет А. Генис, некогда искусственно организованный мир, нашедший свое художественное воплощение в литературе соцреализма, возвращается к «первозданной сложности» [2, с. 26]. Российское общество, подобно греческому обществу в период эллинизма, «утратило веру в способность управлять ходом жизни» [10, с. 191].
Как следствие, возникает тип играющего героя. Сама жизнь становится сценой для этой игры. Играющими предстают персонажи Л. Улицкой («Веселые похороны»), Ю. Буйды («Ермо»), А. Иванова («Общага на крови», «Блуда и Му-до»), Р. Сенчина (сборник «Афинские ночи», «Вперед и вверх на севших батарейках»), В. Пелевина («Жизнь насекомых», «Чапаев и Пустота», «Поколение П», «Священная книга оборотня», «Ампир V»), И. Стогова («Мачо не плачут»), уже упомянутых выше романов В. Маканина. Даже герои прилепинского «Санькя», при всей их внешней брутальности и бескомпромиссности, выглядят как «русские мальчики», играющие в революцию.
В-шестых, в текстах современных авторов, как и поэтов и прозаиков эллинистического периода (Каллимах, Асклепиад, Лукиан), можно увидеть обилие мифологического материала. Мифологизм становится существенной чертой многих современных произведений. Правда, материал этот используется в соответствии с постмодернистской стратегией смешения высокого и низкого, трагического и комического. Так, герой «Поколения П» В. Пелевина под воздействием наркотиков видит шумерскую богиню Иштар. В его же «Жизни насекомых», «Священной книге оборотня» и других текстах используется в качестве сюжетообразующего древнейший мотив метаморфозы. Он же появляется в «Переходном возрасте» А. Старобинец. На основе этого же мотива, только осмысленного уже серьезно, созданы некоторые стихотворения-превращения Ю. Кузнецова («Возвращение», «Родство», «Змеиные травы»). В финале романа П. Крусанова «Укус ангела» возникают таинственные «моги» и зловещие «псы Гекаты», символизирующие безграничные мистические силы России в ее войне с Западом. Фантастический мир романов А. Кима («Поселок кентавров», «Остров Ионы») насыщен образами античной и христианской мифологии. Роман В. Маканина «Асан» назван по имени злого и предельно жестокого божества, которому тайно поклоняются горцы. Но если в далекой древности Асан требовал крови, то сейчас в соответствии с современными реалиями он требует уже денег. Образ божества явно не избежал деконструкции через его десакрализацию и постмодернистскую иронию.
В-седьмых, творчество современных авторов характеризуется «филологичностью» . Авторство понятия принадлежит литературоведу В. Новикову, он употребил его в статье, посвященной Т. Кибирову [7]. Дело в том, что современный писатель несет на себе груз всех тех книг, которые он прочитал когда-то, которые сформировали его как литератора. В эпоху постмодерна это ощущается особенно остро. Речь тут, конечно, не идет о такой крайности, как бартовская «смерть автора» и превращение его в скриптора, которым руководит весь массив литературы, созданной ранее. Здесь, скорее, можно говорить о «диалоге с прошлым» [5]. Но большинство современных произведений так или иначе несет печать интеллектуализма, как правило, демонстрирует у писателя читательскую компетентность, проявляющуюся в незаурядной, а зачастую просто ошеломляющей (как у того же Т. Кибирова) литературной эрудиции. Не случайно среди писателей современности так много докторов и кандидатов филологических наук: Е. Водолазкин, А. Варламов, К. Кедров, А. Архангельский, Ю. Орлицкий, Б. Дугаров, В. Ерофеев, Д. Бак, О. Седакова, П. Басинский, А. Аствацатуров, В. Куллэ и многие другие. В. Новиков говорит о феномене нерасчленимой «поэтической филологии» [7], когда объект и предмет научной рефлексии могут совершенно причудливо войти в поле художественного творчества и наоборот. Это стало современным трендом и касается в том числе писателей, формально не имеющих ученой степени: З. Прилепин выпускает в серии ЖЗЛ книги о Л. Леонове и С. Есенине, Д. Быков — о Б. Пастернаке, С. Шаргунов — о В. Катаеве.
Нечто подобное происходило и в эпоху эллинизма, когда появляется «александрийская школа» поэзии, характеризовавшаяся элитарностью и художественными экспериментами. Это проявляется, в частности, в создании так называемых «фигурных стихотворений» [10, с. 210] (довольно распространенных и в совре- менной русской поэзии). В этот же период появляется и знаменитая Александрийская библиотека, где, собственно, и возникает понятие «филология». Ученые библиотеки занимались комментированием различных текстов, то есть самой что ни на есть филологической деятельностью. Символично, что одно время ее руководителем был знаменитый поэт Каллимах.
Что еще сближает в данном разрезе литературу периода эллинизма с ситуацией в современной русской литературе, так это вопрос о читателе. После крушения в начале 1990-х гг. литературоцентричной модели, господствовавшей в России как минимум два века, вопрос о читателе перестает быть принципиальным. И это подтверждается небольшими — за редким исключением — по сравнению с советским периодом тиражами издаваемых произведений и «толстых» художественных журналов. Такая литература востребована интеллектуальной публикой, прежде всего филологами. Для писателя же на первый план выходит стремление оправдания собственной жизни на экзистенциальном уровне.
В-восьмых, в литературе появляется такое явление, как телоцентризм . В античности он представлен романами «Сатирикон» Гая Петрония и «Метаморфозы, или Золотой осел» Апулея, развивающими эллинистические традиции на римской почве. Являясь продолжением «индуистско-эллинского восприятия мира как тела бога или мирового человека» [1, с. 13], телоцентризм связан с культом молодости. В маканинском «Испуге», например, эротические похождения старика Алабина связаны с его попыткой доказать себе, что несмотря на возраст в нем продолжает бурлить жизнь. Вокруг эротической темы вращаются романы А. Иванова. Эпизоды соответствующего содержания встречаются в «Мачо не плачут» И. Стогова, «Санькя» З. Прилепина и других.
Нужно сказать, что в отличие от европейской литературы, восходящей к античной традиции изображения тела, целомудренная русская литература была лишена традиции телоцентризма и избегала описаний эротического характера. Саму тему, по сути, открывает Э. Лимонов шокирующими читателя порнографическими эпизодами в романе «Это я — Эдичка». Такая трактовка темы тело-центризма, предполагающая физиологическую отвратительность, перверсии, издевательства над телом, создающая парадоксальный эффект «антителоцентризма», возобладала в современной словесности. Ярче всего она представлена в прозе В. Сорокина, в которой доводится до полного абсурда.
В заключение хотелось бы отметить, что выявленные элементы демонстрируют явное сходство культур эллинизма и современной России, воплощенное в художественных текстах. Предложенное сравнение позволяет смоделировать варианты дальнейшего культурного развития, обозначить перспективы и приоритеты, прежде всего ценностного характера.
Список литературы Эллинистические элементы в современной русской литературе
- Ганиева А. Полет археоптерикса. О мотивах современной российской прозы // Литературная учеба. 2009. Март – апрель. № 2. С. 6–15. Текст: непосредственный.
- Генис А. Беседы о новой словесности // Иван Петрович умер. Статьи и расследования. Москва: Новое литературное обозрение, 1999. С. 23–98. Текст: непосредственный.
- Дройзен И. Г. История эллинизма. В 3-х т. Москва: Наука, Ювента, 2002. Т. 1. 466 с. Текст: непосредственный.
- Ерофеев В. Русские цветы зла. Антология. Москва: Подкова, 1998. 504 с. Текст: непосредственный.
- Зусева В. А. А бабочка стихи Державина читает… URL: htth//www.arion.ru. mcontent.php?year=2018 namber1208jax=2315 (дата обращения: 11.10.2021). Текст: электронный.
- Медведева О. Волки целы, овцы сыты. Проблема вымысла в современной прозе // Литературная учеба. 2009. Март – апрель. № 2. С. 16–25. Текст: непосредственный.
- Новиков В. Nos habebit humus. Реквием по филологической поэзии. URL: http//magazines.russ/ru/novyi mir/2001/6 nov.html (дата обращения: 17.11.2021). Текст: электронный.
- Радциг. История древнегреческой литературы. Изд. 4, испр. Москва: Высшая школа, 1977. 551 с. Текст: непосредственный.
- Сорокин П. Социокультурная динамика // Человек. Цивилизация. Общество. Москва: Политиздат, 1992. С. 234–250. Текст: непосредственный.
- Тронский И. М. История античной литературы. Москва: Высшая школа, 1983. 464 с. Текст: непосредственный.
- Эпштейн М. «Гипер» в культуре ХХ века: диалектика перехода от модернизма к постмодернизму // Постмодерн в русской литературе. Москва: Высшая школа, 2005. С. 20–43. Текст: непосредственный.