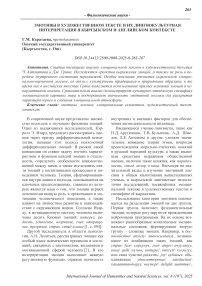Эмотивы в художественном тексте и их лингвокультурная интерпретация в кыргызском и английском контексте
Автор: Каратаева Г.М.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 8 (107), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу эмоциональной лексики в художественных текстах Ч. Айтматова и Дж. Грина. Исследуются средства выражения эмоций, а также их роль в передаче внутреннего состояния персонажей. Особое внимание уделяется кыргызской эмоционально-оценочной лексике, её связи с культурными традициями и природными образами, в то время как в английских текстах Грина выделяется использование прямых названий эмоций и ненормативной лексики. Сравнительный анализ демонстрирует культурно-этническую специфику эмоциональной картины мира и подчеркивает значимость эмотивной лексики для раскрытия характера героев и создания эмоциональной атмосферы.
Эмотивы, лексика, эмоциональная семантика, художественный текст, контекст
Короткий адрес: https://sciup.org/170210889
IDR: 170210889 | DOI: 10.24412/2500-1000-2025-8-263-267
Текст научной статьи Эмотивы в художественном тексте и их лингвокультурная интерпретация в кыргызском и английском контексте
Другой исследователь в области психологии, А.Н. Леонтьев, рассматривает эмоции как особый класс психических процессов и состояний, связанных с инстинктами, желаниями и мотивационной сферой человека [2]. В его интерпретации эмоции выполняют важную регулятивную функцию, отражая значимость внутренних и внешних факторов для обеспечения жизнедеятельности индивида.
Выдающиеся ученые-лингвисты, такие как Н.Д. Арутюнова, Т.В. Булыгина, А.Д. Шмелев, Л.Е. Антонова и другие, уделяли значительное внимание теории этики, вопросам происхождения морально-этических понятий в русской народной культуре, а также языковым средствам выражения общественной оценки, включая такие понятия, как порядочность, стыд, позор и вина. Несмотря на значительный вклад в изучение эмотивной лексики в общем языкознании вышеуказанных ученых, в кыргызской лингвистике недостаточно исследований, посвящённых эмоциональной лексике в художественных текстах и специфике её выражения.
Исследование категории эмотивов основывается на разделении эмоций на две группы. Первая группа включает фундаментальные эмоции, которые регулируются врожденными нейронными программами. На их основе возникают разнообразные комплексные эмоциональные состояния, формирующие вторую группу - сложные эмоции. Например, в бес-покойство\ anxiety\ тынчсыздануу, возникающее из комбинации таких эмоций, как страх\ fear\ коркунуч, гнев\ anger\ ачуулануу, вина\ guilt \кYнoo, интерес\ interest\ кызыгуу, или само чувство радость\ joy\ кубаныч, объединяющее удовлетворение\ satisfaction\ канааттандыруу, восторг\ delight\ шаттык\, праздничное ликование\ jubilation\ майрамдык шаан-шөкөт и экстаз\ rapture\ мемиреп. Каждое из упомянутых эмоциональных проявлений имеет свой культурный диапазон, который зависит от степени выраженности.
В.И. Шаховским используется классификация эмоций, согласно которой, словарный состав, связанный с эмоциями, делится на две категории: слова, непосредственно обозначающие определенные чувства (например, love – любовь, hate – ненависть, admiration – восхищение, jealousy – ревность, sadness – грусть и т.д.), а также лексику, способную выражать эмоциональное состояние персонажа. К последней группе относятся междометия, ругательства и слова, передающие отношение персонажа к предмету речи. Примерами являются такие единицы, как wow (вау), oh (ох), damn (черт), pathetic (жалкий), duckling (утёнок), snake (змея), awesome (потрясающий), piggy (поросёнок) и другие [3].
Анализ эмоционального фона в художественном произведении – задача, занимающая центральное место в лингвистических исследованиях. Литературные тексты – это не просто повествования. Художественное произведение носитель культурного значения, отражающий эмоциональный ландшафт какого-либо народа. Изображение эмотивов в литературе служит средством передачи культурной информации, отражая ценности, убеждения и исторический контекст культуры, из которой они происходят [4]. Изучение эмотивов в литературных текстах раскрывает языковые средства, с помощью которых авторы передают сложные эмоциональные состояния, что позволяет глубже понять психологию культуры.
Для изучения выражения эмоций в литературных текстах в данном исследовании используется ряд методологий, включая сплошную выборку, сравнительный анализ и литературную интерпретацию. Анализируя стилистические элементы, метафоры и фразеологические единицы в отдельных произведениях английской и кыргызской литературы, мы постарались выявить уникальные способы выражения эмоций в разных культурах.
В художественных произведениях Ч. Айтматова, ярко представлены эмоционально-оценочные лексические единицы, характеризующие различные типы отношений и оценок: существительные, описывающие черты характера (коркок – «трус», – «пустослов», арамза – «лентяй», куу түлкү – «хитрец»), а также слова, обозначающие моральноэтические оценки (жалган – «ложь, обман»; жалганчы – «лжец, обманщик»; кууланган – «лживый, хитрый»; шылуун – «мошенник»).
Понимание эмотивного компонента текста критически важно для раскрытия смысла, особенно в произведениях, богатых психологической глубиной, таких как повесть Чингиза Айтматова «Первый учитель». Центральным тезисом исследования является доминирование в повести отрицательных эмоций. Страх, ужас, обида, ожесточение, злость – эти чувства пронизывают повествование, отражая суровую реальность жизни в изображаемой эпохе. Однако, простая констатация наличия этих эмотивов недостаточна для полного понимания эмоциональной палитры повести. Необходимо глубокое исследование их распределения, интенсивности и взаимосвязи с другими эмоциональными оттенками.
Как отмечает Т.С. Есенова, «спектр эмоций, испытываемых женскими персонажами, оказывается значительно шире, чем у мужских. Например, страх Алтынай перед традициями – это не просто пассивное чувство, а сложный коктейль из страха, надежды, и воли к преодолению, ярко проиллюстрированный контрастом между ее желанием учиться и сопротивлением общественных устоев» [5]. Это противостояние предстает перед нами не как абстрактная борьба добра и зла, а через конкретные эмоциональные переживания героини.
Мужчины в основном выражают гордость, смелость, гнев, смущение, злость и страх , в то время как эмоциональный мир женщин включает в себя более широкий диапазон чувств: радость, надежду, уважение, любовь, счастье, тоску, ужас, горе, боязнь, обиду, униженность и чувство вины. Такой контраст не просто отражает социальные роли мужчин и женщин в описываемый период, но также указывает на глубину психологического проникновения автора в внутренний мир своих героев. Понимание этих различий позволяет нам более тонко чувствовать мотивы действий персонажей и оценивать их поведение в соответствующем контексте.
Учитель Дюйшен, несмотря на собственные трудности и невысокий уровень образования, является ярким примером самоотверженности и преданности идее просвещения. Его эмоции, выраженные в речи и действиях, пронизаны глубокой заботой о судьбе Алты-най. Его «действия не продиктованы только чувством долга, но и искренней любовью к девушке и верою в ее будущее. Эта любовь подчеркивает его героичность и поднимает его выше простых рамок профессионального обязанности» [5].
Для передачи радости автор использует синтаксические конструкции, метафоры и олицетворения: « Я бежала, не думая куда, словно бы от избытка сил, и сердце мое билось в груди так радостно… И солнце словно бы знало, отчего я так счастлива » [6, с. 21]. Радость передается через физические ощущения, метафору лёгкости движения и олицетворение природы.
Страх и ужас выражаются через прилагательные, глаголы и аналитические конструкции: « Никогда еще не оставалась я одна в поле… Безлюдными, безмолвными холмами нависло черное крыло ночи… бросилась бежать к аилу… закричала, заплакала » [6, с. 12]. Здесь цвет, пространство и действия персонажей усиливают восприятие страха.
Грусть и внутренние переживания героев проявляются через описание невербальных реакций и олицетворение времени суток: « В сиреневом зыбком свете весеннего вечера было что-то такое грустное и щемящее… Дюйшен старался не показать, как больно ему, как тяжело у него на душе…» [6, с. 28].
Культурно-этнический аспект проявляется в стремлении персонажей скрывать чувства, однако автор позволяет читателю увидеть их внутреннее состояние через детали, жесты и взгляд.
Страх, гнев и ужас в сценах насилия передаются через глаголы действия, эпитеты и сравнения: « Дюйшен оглянулся. Он был весь в крови, страшный и ожесточенный… размахивая доской, закричал …» [6, с. 24].
Сравнения с животными («как бешеные быки») отражают этнокультурный контекст жизни кыргызов. Эпизоды насилия сопровождаются эмоционально окрашенной лексикой и динамическими глагольными формами, что усиливает психологическое воздействие на читателя.
Эмоциональная лексика помогает раскрывать характеры героев и мотивы их действий. Чувство радости , надежды и уверенности в будущем проявляется через реакции Дюйше-на и Алтынай, что подчеркивает значимость просвещения и новой жизни: « Я была счастлива… Ручеек ты мой светлый, – сказал он, ласково глядя на меня… Каким бы ты человеком стала !» [6, с. 16].
Эмотивные средства позволяют автору сочетать индивидуальные переживания с социальными и культурными ценностями, демонстрируя сложность человеческих эмоций и отношений.
Далее рассмотрим лексические средства выражения эмотивов у Дж. Грина.
В рассказе Джона Грина, мастерски передающем эмоциональный спектр персонажей, можно выделить две ключевые группы лексических средств, призванных воплотить внутренний мир героев и их реакции на происходящие события.
-
1 группа – лексика, напрямую обозначающая эмоции: здесь мы встречаем богатый набор слов, точно и ярко описывающих чувства: любовь ( love ), ненависть ( hate ), отвращение ( disgust ), ликование ( jubilation ), скуку ( bore ), боль ( hurt ), ярость ( rage ), расстройство ( upset ), нервозность ( nervous ), спокойствие ( calm ), раздражение ( to get annoyed ), неприязнь ( dislike ), гордость ( to be proud of ), влюбленность ( to be in love with ) и многие другие. Эти лексические единицы служат инструментом глубокого погружения в психологическое состояние персонажей, позволяя читателю непосредственно ощутить, что происходит внутри них. Взять, к примеру, фразу « All I could really hear was his rage » [7, c. 34] – она с поразительной силой передает бушующий гнев героя, не оставляя места для сомнений в его эмоциональном состоянии.
-
2 группа лексических средств, также играющая ключевую роль в передаче эмотивов, включает в себя эмотивную лексику более широкого диапазона: междометия, нецензурные выражения и слова, ярко выражающие отношение персонажей к описываемым событиям и предметам речи. Мы находим здесь такие единицы, как: wow, oh, nah, sucks, hell, awesome, ridiculous , а также более сложные
конструкции, например, « to get annoyed with smb ».
Анализ текста показывает эффективное использование этих средств для подчеркивания эмоционального насыщения рассказа. Рассмотрим некоторые примеры. В фразе
«Jesus Christ, JP said, grabbing the remote to hit pause» [7, c. 61], бранное слово «Jesus Christ» не просто выражает удивление, но передает шок и возмущение героя, окрашивая событие в яркие эмоциональные тона.
Таблица 1. Сравнительная таблица эмотивов в текстах Ч. Айтматова и Дж. Грина
|
Тип эмотива / лексика |
Примеры из Дж. Грина (англ.) |
Примеры из Ч. Айтматова (кыргызский) |
Комментарий / функция |
|
Эмотив любви / привязанности |
love, to be in love with, be attracted to |
сүйүү, мээрим, ашык болуу |
Передают чувства привязанности, заботы, романтические или дружеские эмоции |
|
Эмотив злости / раздражения |
hate, rage, angry, get annoyed, asshat |
жек көрүү, ачуулануу |
Выражают негативное отношение, злость, гнев, раздражение |
|
Эмотив грусти / печали |
upset, hurt, disappointed, nervous |
капаланган, көңүлү калган, кыжырлануу |
Показывают эмоциональное страдание, переживания героев |
|
Эмотив радости / восторга |
jubilation, relief, awesome, hooray |
кубаныч, ырахат жеңил-детүү, шаттык, укмуштуу-дай, |
Передают радость, облегчение, счастье героев |
|
Эмотив страха / тревоги |
dread, nervous, scared, worried |
коркуу, тынчсыздануу |
Показывают тревогу, боязнь, неуверенность персонажей |
|
Эмотив насмешки / иронии |
giddy, make fun of smb., ridiculous |
азил, шылдыңдоо, күлкүлүү, |
Выражают юмор, шутку, иронию, сарказм |
|
Эмотивные междометия |
oh, hmm, nah, wow, wah-wah |
Эх, Аий, Ии, Оу, Оо |
Передают мгновенные эмоции, реакцию персонажей |
|
Эмотив обмана / |
frakkin’, Jesus Christ |
Шайтан алгыр, жерге кир-гир |
Передают негативное |
|
хитрости |
(эмоциональный окрас в контексте обмана) |
||
|
Эмоции оценки / отношения к предмету |
awesome, whatever, cool, comforting, soothingly |
керемет, кандай болсо да, салкын, сооротуу, тынчтан-дыруу |
Показывают субъективное отношение героя к событиям или предметам |
Таким образом, в рассказе Джона Грина наблюдается активное и мастерское использование как прямой лексики эмоций, так и эмотивной лексики более широкого диапазона. Причем особо следует отметить эффективное использование эмотивной лексики в прямой речи, что обеспечивает динамичность повествования и непосредственное включение читателя в эмоциональный мир героев. Использование разнообразных лексических средств позволяет автору точно передать тончайшие нюансы эмоционального состояния персонажей, создавая живые и правдоподобные образы.
В свою очередь, в прозе Айтматова эмоциональные состояния героев тесно интегрированы в описание мира, символику и события, тогда как у Дж. Грина эмоциональные реакции персонажей чаще передаются через лексические единицы и междометия, отражающие динамику внутренней речи и субъективное восприятие.
Оба автора используют эмотивы для раскрытия характеров и мотивации героев; эмоции являются ключевым инструментом взаимодействия с читателем.
Грин применяет прямую эмоционально окрашенную лексику и междометия, делая акцент на динамику внутренней речи. Айтматов же интегрирует эмоции в социальноисторический контекст, природные описания и культурные особенности, создавая более символичную и психологически сложную палитру. В обоих случаях эмоции способствуют развитию сюжета, но в Айтматова эмоциональная насыщенность тесно связана с философской и культурной глубиной произведения.
Следовательно, эмотив в прозе Дж. Грина и Ч. Айтматова выполняет сходные функции – раскрытие характеров, передача эмоционального состояния, усиление воздействия текста на читателя. Однако подходы различны: Грин использует динамическую, прямую эмоцио- нальную лексику, а Айтматов сочетает эмоции с символикой, природой и культурными особенностями. Сравнительное исследование подтверждает важность эмотивной лексики как универсального средства художественного выражения, позволяющего глубоко погрузиться в внутренний мир персонажей и эмоциональную атмосферу произведения.