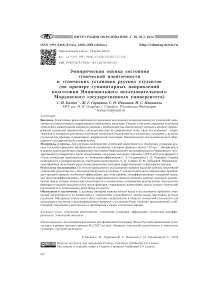Эмпирическая оценка состояния этнической идентичности и этнических установок русских студентов (на примере гуманитарных направлений подготовки Национального исследовательского мордовского государственного университета)
Автор: Баляев Сергей Иванович, Гаранина Жанна Григорьевна, Никишов Сергей Николаевич, Никишова Ирина Станиславовна
Журнал: Интеграция образования @edumag-mrsu
Рубрика: Социология образования
Статья в выпуске: 2 (115), 2024 года.
Бесплатный доступ
Введение. В настоящее время наблюдается тенденция неуклонного снижения ценности этнической идентичности в самосознании подрастающего поколения и молодежи. Оценка и изучение динамики состояния этнического самосознания напрямую связаны с необходимостью комплексного подхода к вопросу формирования и развития патриотизма у молодых россиян на современном этапе. Цель исследования - теоретический и эмпирический анализ состояния этнической идентичности и этнических установок у русских студентов (на примере гуманитарных направлений подготовки Национального исследовательского Мордовского государственного университета).
Этническая идентичность, этнические установки, аффилиация, этническая индифферентность, этнический нигилизм
Короткий адрес: https://sciup.org/147243826
IDR: 147243826 | УДК: 39-057.875:378.4(=161.1)(470.345-25) | DOI: 10.15507/1991-9468.115.028.202402.232-248
Текст научной статьи Эмпирическая оценка состояния этнической идентичности и этнических установок русских студентов (на примере гуманитарных направлений подготовки Национального исследовательского мордовского государственного университета)
В последнее время многими исследователями и представителями общественности фиксируется нивелирование ценности этнической идентичности в самосознании современных россиян1 [1; 2]. Данная проблема приобретает особое значение, когда речь идет о молодежной среде, так как вследствие активного насаждения глобалистских установок происходит размывание национального самосознания именно у молодого поколения, психологически и нравственно неустойчивого перед лицом современных общественно-политических угроз. Повышенная чувствительность сознания молодого человека к манипуляциям извне связана с особенностями возраста. Молодежь, как наиболее восприимчивая и мобильная часть общества, в высокой степени подвержена политическим провокациям. Поэтому всестороннее изучение и выявление скрытых психологических сторон функционирования этнических установок и этнической идентичности будет способствовать грамотному осмыслению происходящих процессов и компетентному планированию различных способов развития позитивной этнической идентичности и устойчивых этнических установок у молодежи. Исследование проводилось в рамках научного проекта № 2/2023 по теме «Развитие этнической идентичности и этнических установок у русской молодежи», что обусловило наше внимание именно к русской части студенчества.
Целью исследования явилось изучение состояния этнической идентичности и этнических установок у русской молодежи на примере Национального исследовательского Мордовского государственного университета (далее – МГУ им. Н. П. Огарёва). Были обозначены следующие задачи: анализ имеющихся теоретических подходов в зарубежной и отечественной науке, обобщение накопленного эмпирического опыта в отношении понятия, структуры и свойств этнической идентичности, а также эмпирический анализ состояния этнической идентичности и этнических установок русских студентов.
Выбор этнических установок и этнической идентичности русской молодежи в качестве объекта исследования предполагает необходимость междисциплинарного характера научно-исследовательского поиска и разработку вопросов, связанных с анализом процесса формирования и развития, механизмов регуляции и контроля установочных образований, а также анализа формирования и развития всего комплекса феноменов, входящих в структуру этнического самосознания. Междисциплинарность выступает важнейшим принципом научного исследования таких этнопсихологических феноменов, как этническая идентичность и этнические установки. Психологи, имея достаточно широкие возможности эмпирического изучения выраженности, проявления и других характеристик русской идентичности на примере малой группы, не вправе игнорировать данные социологических опросов, анализ исторических перипетий в судьбе народа, широкого социального контекста рассмотрения данного феномена в целом. Только в этом случае сохраняется принцип научной объективности исследования столь сложных и неоднородных явлений.
Обзор литературы
В современном мире теряют свою значимость связи внутри этнической группы, а также их идентификационные черты: религия, язык, особенности хозяйственного уклада. М. Хайслер отмечал возрастание роли субъективных признаков в процессе этнической идентификации, подчеркивал, что в условиях глобализирующегося мира объективные маркеры процесса этнического самоопределения в значительной степени нивелированы2.
С одной стороны, развивающиеся процессы глобализации должны были закономерно отодвинуть понятие этнической идентичности на второй план, с другой, по мнению Д. Тэйлора, ‒ последствия отсутствия значимой коллективной идентичности катастрофичны как для группы, так и для отдельного индивида. Этническая ассимиляция часто развивается именно в тех общностях, где запущен процесс утраты выраженной коллективной идентичности, этнической в частности3.
Несмотря на первенство западных исследователей в разработке данной проблемы на протяжении XX в., в условиях резко актуализировавшейся на постсоветском пространстве межэтнической напряженности, был накоплен богатый эмпирический опыт исследования этнической идентичности в нашей стране.
Этническая идентичность рассматривается Л. М. Дробижевой как осознание людьми своей национальности, традиций и отношений [3]. Она выделяет нормальную идентичность, под которой понимает позитивные представления о своей национальности и соответствующие положительные эмоции, и негативную идентичность, формирующуюся на основе представлений о своей неспособности изменять жизнь к лучшему, чувстве обиды и враждебного отношения к «чужим». Однако в данном когнитивно-эмоциональном тождестве с общностью, как это показывает Т. Г. Сте-фаненко в своей работе, главной частью данного феномена оказывается не познавательный компонент, а эмоционально-аффективный ‒ переживание своей принадлежности к этносу [4].
Отечественные и зарубежные ученые подчеркивают функциональную значимость этнической идентичности в жизни современного человека. Так, в исследовании Т. Титовой и соавторов анализируются тесные связи этнической и религиозной идентичности, отмечается, что сознание общности со своей этнической группой позволяет человеку удовлетворять потребность в эмоциональной защищенности [5]. В свою очередь, С. В. Рыжова этническую идентичность рассматривает в контексте реализации потребности индивида в поддержании тесных социальных связей, построенных на взаимной поддержке и уважении [6]. В условиях радикальных социальных трансформаций, политических кризисов отождествление с этносом как вневременной общностью позволяет людям сохранять психологическую устойчивость и положительное самовосприятие.
Становление этнической идентичности осуществляется в онтогенезе и органично реализуется в процессе социализации ребенка. Именно в детстве возникают прочные эмоциональные связи не только с семьей, ближним социальным кругом, но и с этносом. По мнению С. А. Кадыковой, потребность в психологической поддержке со стороны этнической группы особенно актуальна в период детства и подросткового возраста, поскольку обуславливает устойчивый круг общения ребенка, его социометрический статус и самочувствие в группе [7]. Постепенное включение в группу «своих»
способствует эффективному усвоению индивидом языка, культурных традиций и ценностей. Л. С. Выготский охарактеризовал данный процесс как своего рода сшивание с помощью знаков и символов невидимой психологической ткани [8]. Различными авторами отмечается ведущая роль ранних этапов социализации в определении содержания и направленности этнического самоопределения человека в течение всей жизненной перспективы. Так, А. Рахметова с коллегами обращают внимание на быстро формирующуюся у ребенка языковую идентичность и тесно коррелирующую в дальнейшем с его этническим статусом, особенно у выходцев из этнически смешанных семей [9]. Дж. Финни рассматривает процесс становления этнической идентичности как весьма нестабильный и взаимосвязанный с особенностями возрастного развития. Исследователь считает, что наиболее активное развитие осознанной этнической идентичности индивида осуществляется в интервале 10‒16 лет и совпадает с кризисностью и конфликтностью самосознания подростка [10].
Этническая идентичность может быть рассмотрена по степени выраженности на континууме от гипоидентичности до крайних проявлений гиперидентичности. Автор типологии Г. У. Солдатова выделяет шесть типов идентичности, а в качестве точки отсчета предлагает так называемую норму этнической идентичности:
-
1) норма этнической идентичности ‒ характеризуется положительными установками не только к своему, но и к другим этносам;
-
2) этническая индифферентность ‒ показывает, что этнический статус не является значимым, хотя и не отвергается полностью;
-
3) этнонигилизм как крайнее выражение гипоидентичности ‒ проявляется в отрицании идентичности с этнической группой, подчеркивании негативного отношения к ней;
-
4) этноэгоизм (умеренная форма гиперидентичности) ‒ характеризуется тем, что традиции и культурные нормы своего
народа являются своеобразным фильтром восприятия всего остального мира;
-
5) этноизоляционизм ‒ проявляется в отрицательном отношении к чужим этническим группам, отсутствии желания устанавливать с ними контакты;
-
6) национальный фанатизм ‒ характеризуется тенденцией к агрессивному поведению по отношению к лицам других этносов4.
Актуализация этнической идентичности для индивида и группы может быть обусловлена ростом уровня полиэтничности территории за счет притока мигрантов [11], принятием политическим руководством курса на национальное возрождение [12], необходимостью адаптации в новых социокультурных условиях [13] и даже доступностью национальной кухни в регионе [14]. Рост значения этнической идентичности для субъекта нередко является закономерным следствием политической нестабильности и напряженности в стране или регионе, когда повышается потребность в психологической безопасности. В этой связи могут обнаруживаться рост аффективного компонента в структуре этнической идентичности, развитие гиперидентичных тенденций [15; 16].
Этноаффилиация – это установки на психологическую близость со своей этнической группой, которая выражается в готовности контактировать со «своими», следовать их нормам и запретам. Развитые этноаффилиативные установки проявляются в низком уровне социальной дистанции с представителями своего этноса, что позволяет человеку получать психологическую поддержку и помощь группы, избавляться от тревоги и стресса. Как отмечают Р. К. Уразметова и И. Р. Хисматуллин, высокий уровень этноаффилиации тесно коррелирует с выраженностью и положительной направленностью этнической идентичности [17].
В настоящее время проблема этнической идентичности приобрела междисциплинарный контекст. В частности, большое количество научных исследований посвящено проблеме этнической идентичности русских, проживающих на территории России. С. В. Рыжовой установлено, что актуализированной этнической идентичностью обладают 74 % россиян; 20 % опрошенных чувствуют ее «время от времени»; не ощущают эту общность менее 5 % опрошенных, при этом у россиян с актуальной этнической идентичностью ее значимость достигает 93 % [18]. В свою очередь С. Г. Максимова в ходе эмпирического исследования доказывает, что этническая идентичность современного русского населения в регионах нашей страны основана на антропологической и ментальной схожести, социально-экономических характеристиках [19].
В то же время О. В. Голубь с соавторами, проведя сравнительный анализ выраженности этнической идентичности граждан России (русских в том числе) и граждан США, вынуждена констатировать, что у наших соотечественников значительно выше уровень этнонигилизма (в 2,3 раза), этноиндифферентности (в 2,1 раза) и этнофанатизма (в 1,75 раза). Тем не менее авторы исследования подчеркивают, что именно русские (как и россияне в целом) в стрессовых и трудных обстоятельствах готовы на завидное самопожертвование в интересах своего народа и своей страны [1].
За рубежом этническая идентичность русского меньшинства нередко формируется как бикультурная, которая является результатом тесной связи не только с родным этносом, но и с местом проживания [20]. Немаловажным фактором в процессе этнической идентификации русских в других странах становится уровень их психологического благополучия [21]. В частности, у русских, проживающих в Казахстане, позитивная направленность их этнического самоопределения тесно коррелирует с выраженностью таких характеристик, как удовлетворенность жизнью, самопринятие, эмоциональный баланс и реализация жизненных целей, что демонстрирует детерминированность этнической идентичности субъективными личностными качествами [22].
Диагностика содержания и направленности этнических стереотипов также позволяет выявить состояние этнической идентичности группы. В частности, как выяснили в ходе 20-летних эмпирических исследований Л. Г. Почебут и Д. С. Безносов, в число наиболее заметных черт русского автостереотипа входят коллективизм, ориентация на духовные ценности, справедливость, оптимизм, способность к оперативной самоорганизации [23].
А. Ф. Ханова и Е. А. Станкевич, исследуя стереотипы русских и татар, проживающих в республике Татарстан, выявили, что семантическая зона автостереотипа «русские» представлена понятиями «братья», «россияне», «родня», «свои» [22]. Эмоционально-оценочный компонент автостереотипа характеризуется реакциями с положительной коннотацией. В результате сопоставительного анализа регионального русского сознания с русским языковым сознанием авторы упомянутого исследования приходят к выводу о преобладании в автостереотипе этнических русских в Татарстане исключительно положительных характеристик.
Также на основе психолингвистического исследования Э. А. Кечиной и Ю. А. Грише-ниной выявлено ядро ассоциативного поля стимула «Россия» у русских респондентов, представленное самой частотной реакцией «Родина», при этом подчеркивается «великодержавность» страны и отмечается максимальное смысловое тождество понятий «Россия», «русские», «русский дух» [24]. В исследовании А. В. Меренкова и соавторов, посвященном изучению представлений жителей Екатеринбурга о русских (как об этносе), выявлена положительная коннотация этнического автостереотипа русских: «гостеприимство», «душевные качества», «добросердечность», «терпеливость» и «готовность к самопожертвованию» [25].
В последние десятилетия различные исследователи констатируют значительное снижение статуса и роли этнической идентичности в самовосприятии у русской молодежи и подрастающего поколения. Одной из характеристик невыраженной этнической идентичности молодых русских является слабая вербализация этнонима «Я ‒ русский». Как отмечает Г. С. Степанова, анализируя степень включенности в разговорную речь понятия «русский» как критерия актуальности этнической идентичности, для русской молодежи больше, чем для других народов России, не характерно использование этнонима в личном контексте [26].
Другие тревожные и противоречивые данные о состоянии этнической идентичности подрастающего поколения русского этноса были получены в исследовании И. С. Сухорукова [27]. С одной стороны, автор заключает, что у большинства опрошенных этническая идентичность как значимая и ценная категория в их самовосприятии не сформирована, с другой ‒ те же респонденты демонстрируют выраженные ксенофоб-ные установки к другим народам. Схожие результаты получила Н. С. Чернышева, выявив у половины опрошенных русских подростков и юношей диффузную и даже отрицательно направленную этническую идентичность [28].
О состоянии этнической идентичности могут свидетельствовать эмиграционные установки, которые способны актуализироваться у наиболее мобильной части населения, в поисках физических и психологических комфортных условий жизни. В недавнем кросс-культурном исследовании Н. В. Муращенкова и коллеги уточнили ведущую роль в росте интереса к миграционным установкам эмоционально-оценочного компонента этнической, гражданской и глобальной идентичностей [29]. Причем положительная корреляция развитой глобальной идентичности и установок на переезд из России является обратной стороной низкого уровня выраженности этнической идентичности, в частности у русских студентов. Так, у студенчества отечественных вузов обнаружены несформированная этническая идентичность, отрицательные установки к гражданам своей страны и вместе с этим наличие четкой идентификации с глобальной общечеловеческой общностью [30]. Полученные коллегами данные не могут не настораживать научные круги и общественность.
Таким образом, этническая идентичность представляет собой когнитивно-эмоциональное тождество субъекта (индивида, группы) с этнической общностью. Формирование и развитие этнической идентичности, появление психологической близости с этническими «своими» связаны с активным включением человека в этноконтактную среду ‒ многочисленные ситуации межэтнических взаимодействий. Сформированная этническая идентичность является неотъемлемой составляющей социальной идентичности психологически зрелой личности.
В качестве гипотез настоящего исследования следует выдвинуть следующие предположения: структура этнической идентичности студентов неоднородна и выражается в преобладании эмоционально-аффективного компонента над когнитивным; одним из наиболее выраженных типов этнической идентичности у русских студентов является этническая индифферентность; степень развития этноаффилиативных установок должна быть тесно связана с уровнем выраженности этнической идентичности русских студентов; тип этнической идентичности взаимосвязан с личностными свойствами русских студентов.
Материалы и методы
Для изучения состояния этнической идентичности и этнических установок русских студентов гуманитарных направлений подготовки нами было проведено эмпирическое исследование на базе МГУ им. Н. П. Огарёва, в котором принимали участие студенты направлений подготовки «Психология», «Журналистика», а также специальности «Экономическая безопасность». Общий объем выборки составил 150 чел. в возрасте от 18 до 20 лет. Исследуемая выборка состояла из 95 девушек и 55 юношей, что обусловлено преимущественной представленностью лиц женского пола на гуманитарных направлениях подготовки. 90 % респондентов причисляют себя к русской национальности. Все респонденты были проинформированы об участии в исследовании и выразили готовность к сотрудничеству.
Особенности этнической идентичности изучались с помощью методики Г. У. Солдатовой и С. В. Рыжовой «Типы этнической идентичности»5. Опросник включает в себя шесть шкал: этнический нигилизм, этническую индифферентность, позитивную этническая идентичность, этнический эгоизм и этнический фанатизм. Исследование особенностей этнической идентичности проводилось с помощью методики А. Н. Татарко и Н. М. Лебедевой «Оценка позитивности и неопределенности этнической идентичности»6, включающей шкалы позитивной и неопределенной этнической идентичности. Согласованность α-Кронба-ха по шкалам данной методики составила 0,84. Этнические установки выявлялись с помощью опросника этнической аффилиации (Г. У. Солдатовой и С. В. Рыжовой)7, измеряющего общий уровень этнической аффилиации, этноаффилиативные и анти-этноаффилиативные тенденции. Согласованность α-Кронбаха по шкалам данной методики составила 0,81. Для изучения личностных особенностей студентов использовался опросник 16PF Р. Кеттелла (форма С; 105 вопросов). Математическая обработка полученных результатов проводилась методами корреляционного и факторного анализа с помощью статистического пакета SPSS Statistics 23.0.
Результаты исследования
Результаты исследования распределения уровней выраженности этнической аффилиации и типов этнической идентичности студентов по методикам Г. У. Солдатовой и С. В. Рыжовой «Этническая аффилиация», «Типы этнической идентичности» и методике А. Н. Татарко и Н. М. Лебедевой «Оценка позитивности и неопределенности этнической идентичности» представлены в таблице 1.
Т а б л и ц а 1. Уровень выраженности типов этнической аффилиации и этнической идентичности студентов
T a b l e 1. Level of expression of types of ethnic affiliation and ethnic identity of students
|
Шкалы / Scales |
Средние значения / Averages (М) |
Стандартные отклонения / Standard deviations (SD) |
Min |
Max |
|
Общий уровень этнической аффилиации / General level of ethnic affiliation |
50,70 |
10,57 |
20 |
80 |
|
Этноаффилиативные тенденции / Ethnoaffiliative tendencies |
25,90 |
5,50 |
10 |
40 |
|
Антиэтноаффилиативные тенденции / Anti-ethno-affiliative tendencies |
24,90 |
6,10 |
10 |
40 |
|
Этнический нигилизм / Ethnic nihilism |
2,80 |
2,26 |
0 |
10 |
|
Этническая индифферентность / Ethnic indifference |
13,40 |
3,67 |
0 |
20 |
|
Позитивная этническая идентичность (норма) / Positive ethnic identity (norm) |
18,80 |
2,32 |
0 |
20 |
|
Этнический эгоизм / Ethnic egoism |
4,70 |
3,14 |
0 |
20 |
|
Этнический изоляционизм / Ethnic isolationism |
3,12 |
3,06 |
0 |
20 |
|
Этнический фанатизм / Ethnic fanaticism |
3,53 |
2,85 |
0 |
20 |
|
Позитивная этническая идентичность / Positive ethnic identity |
17,03 |
2,59 |
0 |
20 |
|
Неопределенная этническая идентичность / Undefined ethnic identity |
8,62 |
3,02 |
0 |
20 |
Источник : здесь и далее в статье все таблицы составлены авторами. Source : Hereinafter in this article all tables were drawn up by the authors.
Из данных таблицы видим, что общий уровень этнической аффилиации у респондентов выше средних значений; это характеризуется стремлением быть окруженным людьми своей этнической общности и созданием доверительных, дружеских отношений с представителями других этносов. При этом средний уровень этноаффилиативных тенденций выше, чем антиэтноаффилиатив-ных, что говорит о преобладании у студентов стремления к установлению дружеских отношений с представителями различных этнических групп перед стремлением отдалиться от них.
Исследование типов этнической идентичности показало, что у большинства респондентов преобладает высокий уровень позитивной этнической идентичности. Это проявляется в положительном отношении студентов к представителям своей и других национальностей. Наименее выражены у студентов этнический эгоизм, этнический фанатизм и этнический изоляционизм.
Проводившееся нами ранее исследование этнической идентичности студентов с помощью методики Дж. Финни «Этническая идентичность» [31] также подтверждает тот факт, что у большинства русских студентов преобладает чувство принадлежности к своему этносу, складываются о нем четкие представления, способствующие осознанию своих этнических качеств.
Исследование личностных особенностей студентов, проводившееся с помощью опросника 16PF Р. Кеттелла, показало средний уровень выраженности большинства выявленных факторов. Значения выше среднего наблюдаются по факторам B (интеллект) (М = 6; SD = 2,17), M (практичность – мечтательность) (М = 6,7; SD = 2,32) и Q3 (низкий/ высокий самоконтроль) (М = 6,15; SD = 2,65).
Поскольку в настоящей выборке большинство студентов причисляют себя к русской национальности, а доля представителей других этнических групп относительно мала, статистическая обработка полученных результатов проводилась на основе совокупности всех полученных данных. Для проверки одной из гипотез нашего исследования о том, что степень развития этно-аффилиативных установок должна быть тесно связана с уровнем выраженности этнической идентичности русских студентов, был проведен корреляционный анализ полученных данных, который показал наличие статистически значимых взаимосвязей между некоторыми типами этнической идентичности и этнической аффилиацией. Так, этническая аффилиация отрицательно связана с этнической индифферентностью (r = ‒0,42, p < 0,01), а этнический эгоизм положительно ‒ с этнической аффилиацией (r = 0,268, p < 0,01).
Проведенное нами исследование взаимосвязей между личностными особенностями студентов и типами этнической идентичности показало, что некоторые личностные качества студентов связаны с различными типами этнической идентичности [31].
Для структурирования полученных результатов по типам этнической идентичности, этнической аффилиации и личностных особенностей респондентов применялся факторный анализ (методом главных компонент) и вращение Варимакс с нормализацией Кайзера, на основе которого было выделено пять факторов. Результаты факторного анализа представлены в таблице 2.
Первый фактор ‒ «Тревожность» (с дисперсией 19,1 %). В него вошли следующие показатели: «F1 – тревожность» (0,935), «Фактор Q4 (расслабленность – напряженность)» (0,73), «Фактор O (спокойствие – тревожность)» (0,75), «Фактор L (доверчивость – подозрительность)» (0,61). Максимальный факторный вес имеет фактор «F1 – тревожность», вокруг него группируются все остальные параметры. Это позволяет утверждать, что тревожность студентов во многом определяется высоким уровнем напряженности и подозрительности и образует определенный личностный тип, влияющий на особенности отношения к людям и окружающей действительности.
Второй фактор ‒ «Экстраверсия» (с дисперсией 12,8 %). Включает такие переменные, как «F 2 ‒ экстраверсия» (0,95), «Фактор E (подчиненность – доминантность)» (0,56), «Фактор F (сдержанность – экспрессивность)» (0,74), «Фактор A (замкнутость – общительность)» (0,65), «Фактор H (робость – смелость)» (0,63) и «Этнический нигилизм» (0,35).
Т а б л и ц а 2. Результаты факторного анализа, %
T a b l e 2. Results of factor analysis, %
|
№ п/п |
Название шкал / Scale name |
Факторы / Factors |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||
|
Дисперсия / Dispersion, % |
19,100 |
12,800 |
11,100 |
8,400 |
7,600 |
|
Типы этнической идентичности / Types of ethnic identity
|
1 |
Этнический нигилизм / Ethnic nihilism |
0,045 |
0,350 |
0,480 ‒0,040 |
0,450 |
|
|
2 |
Этническая индифферентность / Ethnic indifference |
‒0,110 |
–0,089 |
‒0,230 ‒0,068 |
0,770 |
|
|
3 |
Позитивная этническая идентичность (норма) / Positive ethnic identity (norm) |
0,033 |
0,090 |
‒0,180 ‒0,080 |
‒0,018 |
|
|
4 |
Этнический эгоизм / Ethnic egoism |
0,080 |
0,053 |
0,770 |
0,130 |
0,098 |
|
5 |
Этнический изоляционизм / Ethnic isolationism |
‒0,020 |
0,160 |
0,810 |
0,140 |
‒0,060 |
|
6 |
Этнический фанатизм / Ethnic fanaticism |
0,003 |
0,012 |
0,740 ‒0,050 |
‒0,250 |
|
Личностные свойства / Personal properties
|
7 |
Фактор A (замкнутость – общительность) / Factor A (reticent – sociable) |
‒0,260 |
0,650 |
‒0,016 ‒0,130 ‒0,135 |
|
8 |
Фактор B (интеллект) / Factor B (intellect) |
‒0,004 |
‒0,151 |
0,017 0,330 0,730 |
|
9 |
Фактор C (эмоциональная стабильность / нестабильность) / Factor C (emotional stability / instability) |
‒0,660 |
0,380 |
0,108 ‒0,120 0,075 |
|
10 |
Фактор E (подчиненность – доминантность) / Factor E (subservience – dominance) |
‒0,130 |
0,560 |
0,164 0,340 ‒0,240 |
|
11 |
Фактор F (сдержанность – экспрессивность) / Factor F (restraint – expressiveness) |
‒0,090 |
0,740 |
0,156 ‒0,130 ‒0,115 |
|
12 |
Фактор G (низкая/высокая нормативность поведения) / Factor G (low/high normative behavior) |
‒0,025 |
‒0,014 |
0,026 ‒0,270 ‒0,063 |
|
13 |
Фактор H (робость – смелость) / Factor H (timidity – courage) |
–0,322 |
0,630 |
–0,150 0,250 0,046 |
|
14 |
Фактор L (доверчивость – подозрительность) / Factor L (gullibility – suspiciousness) |
0,610 |
0,093 |
0,360 0,270 ‒0,038 |
|
15 |
Фактор M (практичность – мечтательность) / Factor M (practicality ‒ daydreaming) |
0,046 |
‒0,056 |
‒0,270 ‒0,550 0,077 |
|
16 |
Фактор N (прямолинейность – дипломатичность) / Factor N (straightforwardness – diplomacy) |
0,181 |
‒0,071 |
0,113 ‒0,004 0,031 |
|
17 |
Фактор O (спокойствие – тревожность) / Factor O (calmness – anxiety) |
0,750 |
‒0,250 |
0,280 ‒0,131 ‒0,040 |
|
18 |
Фактор Q1 (консерватизм – радикализм) / Factor Q1 (conservatism – radicalism) |
0,038 |
0,215 |
0,050 0,750 0,127 |
|
19 |
Фактор Q2 (конформизм – нонконформизм) / Factor Q2 (conformism – nonconformism) |
‒0,155 |
‒0,540 |
‒0,210 0,340 ‒0,175 |
|
20 |
Фактор Q3 (низкий/высокий самоконтроль / Factor Q3 (low/high self-control) |
‒0,394 |
0,044 |
0,123 ‒0,035 ‒0,156 |
|
21 |
Фактор Q4 (расслабленность – напряженность) / Factor Q4 (relaxed – tense) |
0,730 |
0,013 |
0,056 ‒0,004 0,016 |
|
22 |
F1 (тревога) / F1 (Anxiety) |
0,935 |
‒0,263 |
0,029 ‒0,046 ‒0,014 |
|
23 |
F2 (интроверсия – экстраверсия) / F2 (introversion – extraversion) |
‒0,251 |
0,950 |
0,064 0,095 ‒0,062 |
|
24 |
F3 (чувствительность – уравновешенность) / F3 (sensitivity – poise) |
‒0,214 |
0,032 |
0,082 0,005 ‒0,059 |
|
25 |
F4 (конформность – независимость) / F4 (conformity – independence) |
‒0,026 |
‒0,148 |
0,104 0,850 0,018 |
Поскольку наибольший факторный вес имеет фактор «F 2 ‒ экстраверсия», можно сделать вывод о том, что высокая экстраверсия определяет высокий уровень общительности, прямолинейности, доминантности, смелости, а также склонности к этническому нигилизму.
Третий фактор ‒ «Этнический изоляционизм» (с дисперсией 11,1 %). Содержит переменные «Этнический изоляционизм» (0,81), «Этнический эгоизм» (0,77), «Этнический фанатизм» (0,74), «Этнический нигилизм» (0,48), «Фактор L (доверчивость – подозрительность)» (0,36), «Фактор M (практичность – мечтательность)» (‒0,27). Наибольшую факторную нагрузку имеют показатели «Этнический изоляционизм», «Этнический фанатизм» и «Этнический эгоизм», что может говорить о связи таких личностных черт, как подозрительность и практичность со стремлением признавать авторитет только своей этнической группы, осторожно и недоверчиво относиться к лицам других этнических групп.
Четвертый фактор ‒ «Конформность – независимость» (с дисперсией 8,4 %). Вошли следующие показатели: «F4 (конформность – независимость)» (0,85), «Фактор Q1 (консерватизм – радикализм)» (0,75), «Фактор M (практичность – мечтательность)» (‒0,55), «Фактор E (подчиненность – доминантность)» (0,34), «Фактор Q2 (конформизм – нонконформизм)» (0,34). Такие личностные качества, как радикализм, нонконформизм, доминантность, практичность группируются вокруг фактора «Конформность – независимость», что логично составляет комплекс черт, характеризующий тип доминантной и независимой личности.
Пятый фактор ‒ «Этническая индифферентность» (с дисперсией 7,6 %). Составили примерно с равными факторными нагрузками переменные «Этническая индифферентность» (0,77), «Фактор В (интеллект)» (0,73), а также «Этнический нигилизм» (0,45). Полученные данные можно объяснить тем, что интеллектуально развитые респонденты склонны к нейтральному отношению к собственной национальной принадлежности, а в отношениях с другими людьми ориентируются не на этические, а на индивидуально-психологические особенности.
Обсуждение и заключение
Большинство русских студентов характеризуют позитивная этническая идентичность и этноаффилиативные установки, положительное отношение к лицам своей этнической группы, а также доброжелательное отношение к другим национальностям.
Выявленный высокий уровень позитивности этнической идентичности во многом обусловлен повышенным интересом к своей этнической группе. Возрастающее значение этнической идентичности для русской молодежи может выступать следствием не только роста политической нестабильности в стране, но и актуализации общественного запроса на демонстрацию русского начала в массовой культуре и СМИ. Выявленная в ходе эмпирического исследования неоднородность структуры этнической идентичности русских студентов и преобладание аффективного компонента над когнитивным подтверждают выдвинутую нами гипотезу, а также согласуются с результатами исследований, проведенных С. В. Рыжовой [18], Д. Ю. Крупновым [16] и А. А. Сидельниковой [15].
Аффилиативные установки рассматриваемой группы характеризуются умеренным стремлением к общению с представителями своей национальности и склонностью к созданию дружеских отношений с представителями других национальностей. При этом у респондентов преобладает готовность к развитию конструктивных отношений с людьми различных этносов над стремлением дистанцироваться от них. У большинства опрошенных аффективный компонент преобладает над когнитивным, что проявляется в недостаточно четких представлениях о своей этнической принадлежности. Отрицательные взаимосвязи этнической индифферентности и этноаффилиации могут объясняться готовностью дружески взаимодействовать с людьми независимо от их этнической принадлежности.
Неопределенная этническая идентификация характеризует лиц с выраженной этнической индифферентностью, безразличным отношением к своей национальности, склонностью к дистанцированию от своих национальных корней, поэтому у студентов со слабым интересом к собственной этничности наблюдается снижение позитивности своей этнической идентичности.
Результаты факторного анализа подтверждают предположение о том, что типы этнической идентичности во многом зависят от личностных особенностей студентов. Это обусловлено влиянием особенностей личности на процесс развития этнической идентичности.
Взаимодействие между «Фактором Е (подчиненность ‒ доминантность)» и этническим изоляционизмом ‒ выраженным стремлением к доминированию ‒ связано с негативным отношением к представителям других этносов, склонностью изолироваться от них. Доминантность соотносится с этноэгоизмом, стремлением общаться с представителями только своей этнической группы, а также с осторожным и напряженным отношением к лицам других этносов. Этническая индифферентность обратно связана с доминантностью, что говорит об ориентированности на этнические признаки у лиц, склонных к доминированию в отношениях с людьми.
Эмоциональная нестабильность («Фактор С») сопоставляется с этническим нигилизмом, что может свидетельствовать о стремлении неуравновешенных, тревожных лиц к установлению более устойчивых взаимоотношений с другими людьми независимо от их национальности.
Отрицательная взаимосвязь между «Фактором N (прямолинейность ‒ дипломатичность)» и этническим эгоизмом говорит о том, что дипломатичность в общении с представителями других этносов может проявляться в признании равных прав и возможностей людей всех национальностей.
Взаимосвязь между этническим изоляционизмом и «Фактором F4 (конформность – независимость)» свидетельствует о том, что стремящиеся к независимости лица более склонны к обособленности, признанию независимости и превосходства своего народа. «Фактор Q3 (низкий/высокий самоконтроль)» отрицательно связан с этническим фанатизмом, что может говорить о резко негативном отношении к другим этносам у респондентов с низким уровнем самоконтроля.
Экстравертированных, общительных и прямолинейных лиц характеризуют высокий уровень этнического нигилизма, склонность к поиску взаимосвязей не только с людьми своей этнической группы, но и с лицами других национальностей. Личностная тревожность во многом определяет напряженное и подозрительное отношение к окружающим людям и влияет на характер социального взаимодействия. Лиц с выраженным этническим изоляционизмом, фанатизмом и эгоизмом характеризуют высокий уровень подозрительности, осторожное отношение к представителям других национальностей, склонность к дистанцированию от них, а также признание превосходства своей этнической группы над другими. Уровень интеллекта студентов во многом влияет на их индифферентное отношение к этническим особенностям окружающих людей. Студенты с высоким уровнем конформизма стремятся ориентироваться в социальном взаимодействии на общепринятые нормы и сочетать положительное отношение к своему народу с аналогичным отношением к другим этносам. Лица с выраженным стремлением к независимости отличаются радикализмом, нонконформизмом и стремлением дистанцироваться от других этнических групп.
Таким образом, типы этнической идентичности связаны со сложившимися этническими установками по отношению к своей и другим этническим группам, а также с некоторыми личностными качествами русских студентов.
Представленные результаты не претендуют на всеобщность описания, поскольку имеют некоторые ограничения. Границы применимости определяются спецификой социально-демографических и учебно-профессиональных характеристик респондентов и не могут быть полностью перенесены на представителей других учебно-профессиональных групп и в целом на всю студенческую молодежь региона. Другие ограничения применимости результатов исследования связаны с тем, что они не рассматривают все возможные этнические, социокультурные и психологические особенности респондентов, что может внести дополнительные коррективы в понимание проблемы этнической идентичности и представляет направление для проведения дальнейших исследований.
В качестве направлений для проведения будущих исследований можно выделить расширение спектра изучаемых социально-демографических и психологических характеристик русской молодежи, а также разработку и проведение социальнопсихологических мероприятий, способствующих формированию позитивной этнической идентичности и этнических установок русских студентов. Важнейшим в условиях значительной роли эмоционально-аффективной составляющей в структуре этнической идентичности русской молодежи становится вопрос дальнейшего целенаправленного укрепления сознательного приобщения к этническом корням, развития когнитивного компонента психологической близости молодого поколения к родному языку и традициям русского народа.
Результаты проведенного исследования могут использоваться на практике для формирования у студентов более глубоких представлений о своей этнической идентичности и позитивных этнических установок, способствующих налаживанию доброжелательных отношений русской молодежи с представителями своей и других этнических групп.
Список литературы Эмпирическая оценка состояния этнической идентичности и этнических установок русских студентов (на примере гуманитарных направлений подготовки Национального исследовательского мордовского государственного университета)
- Голубь О. В., Тимофеева Т. С., Долгова В. Ю. Особенности этнической идентичности американцев и россиян // Мир науки. Педагогика и психология. Т. 8, № 2. URL: https://mir-nauki.com/ PDF/65PSMN220.pdf (дата обращения: 09.09.2023).
- Малыгина И. Г. Культурная идентичность в современной России: поиск новых моделей // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2011. № 3. С. 43-48. URL: http://files. mgik.org/Vestnik/2011/2011-3/2011%20-%203%20-%2043.pdf (дата обращения: 09.09.2023).
- Дробижева Л. М. Идентичность и этнические установки русских в иноязычной среде // Социологические исследования. 2010. № 12 (320). С. 49-58. URL: https://www.isras.ru/files/File/Socis/2010-12/Dro-bizheva.pdf (дата обращения: 09.09.2023).
- Стефаненко Т. Г. Этническая идентичность: от этнологии к социальной психологии // Вестник Московского университета. Сер. 14: Психология. 2009. № 2. С. 3-17. URL: https://msupsyj.ru/articles/arti-cle/4835/ (дата обращения: 09.09.2023).
- Confessional Groups in the Republic of Tatarstan: Identity and Features of Its Design / T. Titova [et al.] // Codrul Cosminului. 2019. Vol. 25, issue 1. P. 87-94. https://doi.org/10.4316/CC.2019.01.005
- Рыжова С. В. О ценностных характеристиках современной русской этнической идентичности // Власть. 2016. Т. 24, № 9. С. 163-172. URL: https://www.jour.fnisc.ru/index.php/vlast/article/view/4627/4409 (дата обращения: 09.09.2023).
- Кадыкова С. А. Психолого-педагогические условия развития позитивной этнической идентичности учащихся // Образование и саморазвитие. 2008. № 3 (9). С. 207-213. EDN: PBYFQX
- Выготский Л. С. Проблема культурного развития ребенка (1928) // Вестник Московского университета. Сер. 14: Психология. 1991. № 4. С. 5-18. URL: http://flogiston.ru/library/vyg_cult (дата обращения: 04.12.2023).
- How Much Language is Important for Ethnic Identity of Young Kazakhstanis from Inter-Ethnic Families? / A. Rakhmetova [et al.] // Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences. 2022. Vol. 15, issue 11. P. 1573-1584. URL: https://clck.ru/3A6ScM (дата обращения: 09.09.2023).
- Phinney J. S. Ethnic Identity in Adolescents and Adults: Review of Research // Psychological Bulletin. 1990. Vol. 108, issue 3. P. 499-514. https://doi.org/10.1037/0033-2909.108.3.499
- Balich N. L., Mukha V. N. The Ethnic Identity in the Social Identity Structure of the Residents of Belarus and Russia // Asian Social Science. 2015. Vol. 11, no. 3. P. 327-334. https://doi.org/10.5539/ass.v11n3p327
- Lenovsky L. Vzt'ah Jazyka, Kultury a Identity v Prostredi Etnickych Minorit // Slavica Slova-ca. 2018. Vol. 53, issue 3-4. P. 243-251. URL: http://www.slavu.sav.sk/casopisy/slavica/2018_1/Studie_fi-nal_2-bezorez.pdf (дата обращения: 07.11.2023).
- Ethnic Identity of Young Koreans Living in the Russian Far East / K. I. Vorobyova [et al.] // Indian Journal of Science and Technology. 2016. Vol. 9, issue 21. P. 1-9. https://doi.org/10.17485/ijst/2016/v9i21/95223
- The in Influence of Biculturalism/Integration Attributes on Ethnic Food Identity Formation / N. Ishak [et al.] // Journal of Ethnic Foods. 2019. Vol. 6. Article no. 21. https://doi.org/10.1186/s42779-019-0024-4
- Сидельникова А. А. Условия и способы формирования позитивной этнической идентичности у студенческой молодежи Донецкого региона // Гуманитарный вестник (Горловка). 2017. Вып. 5. С. 137-143. EDN: YWRQTZ
- Особенности развития этнической идентичности молодежи Южной Осетии / Д. Ю. Крупнов [и др.] // Современные проблемы науки и образования. 2014. № 5. URL: https://science-education.ru/ru/arti-cle/view?id=15170 (дата обращения: 07.11.2023).
- Уразметова Р. К., Хисматуллин И. Р. Этническая аффилиация среди молодежи в условиях полиэтнического общества (на примере республики Башкортостан) // Вестник КрасГАУ. 2015. Вып. 4. С. 225-227. URL: http://www.kgau.ru/vestnik/content/2015/4.pdf (дата обращения: 09.09.2023).
- Рыжова С. В. Этническая идентичность в общественном измерении // Социологическая наука и социальная практика. 2020. Т. 8, № 3. С. 165-181. https://doi.org/10.19181/snsp.2020.8.3.7497
- Maximova S. G., Omelchenko D. A., Noyanzina O. E. The Ethnic Identification of Russians in Mono-and Polyethnic Regions: Repertory Grid Analysis // Society and Security Insights. 2020. Vol. 3, no. 2. P. 13-40. https://doi.org/10.14258/ssi(2020)2-01
- Рябиченко Т. А., Лебедева Н. М., Плотка И. Д. Множественные идентичности, аккультурация и адаптация русских в Латвии и Грузии // Культурно-историческая психология. 2019. Т. 15, № 2. С. 54-64. https://doi.org/10.17759/chp.2019150206
- Султаниязова Н. Ж. Соотношение характеристик этнической идентичности и субъективного благополучия русских и казахов // Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер.: Акмео-логия образования. Психология развития. 2019. Т. 8, вып. 1. C. 52-62. https://doi.org/10.18500/2304-9790-2019-8-1-52-62
- Ханова А. Ф., Станкевич Е. А. Автостереотипы и гетеростереотипы русских и татар в республике Татарстан // Вопросы психолингвистики. 2016. № 4 (30). С. 244-255. URL: https://iling-ran.ru/library/ voprosy/30.pdf (дата обращения: 07.11.2023).
- Почебут Л. Г., Безносов Д. С. Психологический анализ социальных представлений русских // Вестник Ленинградского государственного университета им. А. С. Пушкина. Сер.: Психология. 2013. Т. 5, № 2. С. 15-23. EDN: RVDQPR
- Кечина Э. А., Гришенина Ю. А. Образ России как авто- и гетеростереотип в языковом сознании русских и арабских студентов // Международный научно-исследовательский журнал. 2016. № 8 (50). URL: https://clck.ru/3A77wZ (дата обращения: 09.09.2023).
- Меренков А. В., Скрябина К. Ю., Антонова Н. Л. Этническая идентичность: представления жителей крупного города о русском этносе // Вестник Удмуртского университета. Социология. Политология. Международные отношения. 2020. Т. 4, вып. 1. С. 20-25. https://doi.org/10.35634/2587-9030-2020-4-1-20-25
- Степанова Г. С. Особенности этнической идентичности русских: проблемы и перспективы исследования // Социальная психология и общество. 2012. Т. 3, № 4. C. 41-52. URL: https://psyjournals.ru/jour-nals/sps/archive/2012_n4/sps_2012_n4_56496.pdf (дата обращения: 09.09.2023).
- Сухоруков И. С. Формирование этнокультурной идентичности подростков и юношества в контексте становления в России гражданского общества: опыт эмпирического исследования // Научный результат. Педагогика и психология образования. 2016. Т. 2, № 4. C. 53-62. URL: https://rrpedagogy.ru/media/ pedagogy/2016/4/Сухоруков_ИС.pdf (дата обращения: 07.11.2023).
- Чернышева Н. С. Развитие этнической идентичности школьников // Известия Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена. 2010. № 125. С. 103-112. URL: https://lib.herzen.spb.ru/media/magazines/contents/1/125/chernyshevа_125_103_112.pdf (дата обращения: 07.11.2023).
- Этническая, гражданская и глобальная идентичности как предикторы эмиграционной активности студенческой молодежи Беларуси, Казахстана и России / Н. В. Муращенкова [и др.] // Культурно-историческая психология. 2022. Т. 18, № 3. С. 113-123. https://doi.org/10.17759/chp.2022180314
- Представления о настоящем и будущем страны как фактор эмиграционной активности студенческой молодежи: кросс-культурный анализ / М. Н. Ефременкова [и др.] // Социальная психология и общество. 2023. Т. 14, № 1. C. 111-131. https://doi.org/10.17759/sps.2023140107
- Личностные особенности русских студентов с различными типами этнической идентичности / С. И. Баляев [и др.] // Гуманитарий: актуальные проблемы гуманитарной науки и образования. 2023. Т. 23, № 4. С. 467-483. https://doi.org/10.15507/2078-9823.064.023.202304.467-483