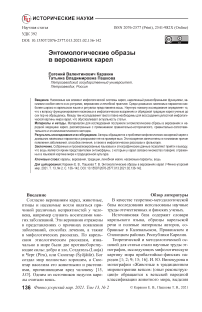Энтомологические образы в верованиях карел
Автор: Евгений Валентинович Каракин, Татьяна Владимировна Пашкова
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 2 т.13, 2021 года.
Бесплатный доступ
Введение. Насекомые как элемент мифологической системы карел, наделенный разнообразными функциями, занимали особое место в их ритуалах, верованиях и лечебной практике. Среди домашних насекомых-паразитов наиболее широко в карельском языке и ритуалах представлена вошь. Научную новизну исследования определяет то, что к вопросу функционирования насекомых в мифологических воззрениях и обрядовой традиции карел ученые до сих пор не обращались. Между тем исследования такого плана необходимы для воссоздания целостной мифологической картины мира карел, что обусловливает актуальность статьи. Материалы и методы. Материалом для исследования послужили энтомологические образы в верованиях и народной медицине карел, рассмотренные с применением сравнительно-исторического, сравнительно-сопоставительного и этнолингвистического методов. Результаты исследования и их обсуждение. Авторы обращаются к проблеме мифологических воззрений карел о домашних насекомых-паразитах и раскрывают ее на примере вши. Эти воззрения запечатлены в понимании причин появления заболеваний, способов лечения, а также в мифологических рассказах и фольклоре. Заключение. Собранные и проанализированные языковые и этнографические данные позволяют прийти к выводу, что вошь является ярким представителем энтомофауны, с которым у карел связано множество поверий, отраженных в языковой картине мира и традиционной культуре.
Карелы, верования, традиции, лечебная магия, насекомые-паразиты, вошь
Короткий адрес: https://sciup.org/147231326
IDR: 147231326 | УДК: 392 | DOI: 10.15507/2076-2577.013.2021.02.136-142
Текст научной статьи Энтомологические образы в верованиях карел
Согласно верованиям карел, животные, птицы и насекомые могли являться причиной различных неприятностей у человека, например служить носителями многих заболеваний. Эти верования отражены в представлениях о причинах появления заболеваний, способах лечения, а также в мифологических рассказах. По карельским этиологическим рассказам, изначально в мире были две противоборствующие силы: добро и зло, Создатель (Luoja) и Черт (Piru), или Сюоятар (Šyöjätär). Бог создал мир полностью хорошим, а Сюо-ятар населила его животными и растениями, причиняющими вред человеку [15, 335 ]. Одним из источников недугов карелы считали вошь.
Обзор литературы
В качестве теоретико-методологической базы исследования использованы научные труды отечественных и финских ученых.
Источниковая база содержит словари карельского языка, образцы карельской речи и полевые материалы авторов, собранные в Калевальском, Пряжинском и Олонецком районах Республики Карелия.
Теоретической и методологической основой для статьи стали научные труды этнографов, исследующих мифологическую картину мира прибалтийско-финских народов [1; 2; 9; 15; 16]. И. Ю. Винокурова в монографии «Животные в традиционном мировоззрении вепсов: (опыт реконструкции)» обращается к вепсской народной классификации животного мира, выделяя в группе «Насекомые» домашних паразитов, в том числе вошь [2, 30–41]. В работе «Мифология вепсов» автор приводит этнолингвистические, этнографические и фольклорные данные относительно различных насекомых1.
Необходимо отметить, что на карельском материале рассматриваемая проблема не становилась объектом научного интереса. Эпизодично мифологические представления о насекомых (верования, способы лечения педикулеза и др.) затрагиваются в трудах финских ученых, таких как И. К. Инха [4], Ю. Пентикяйнен [15], Х. и П. Виртаранта [16], Й. Хаутала [11].
Кроме того, авторы обращались к работам по народной медицине финно-угорских, прибалтийско-финских народов, а также русских [8–10; 12]. Сопоставительный анализ позволяет выявить взаимовлияние языков и культур.
В качестве лингвистических источников послужили словари карельского языка и образцы карельской речи2, сборники карельских фразеологизмов и пословиц3.
Материалы и методы
В работе использовались сравнительно-исторический, сравнительно-сопоста-вительний и этнолингвистический методы. Сравнительно-исторический метод применялся при исследовании обрядов, традиций и верований, сравнительно-сопоставительный и этнолингвистический – при анализе языкового материала, а также культурных аспектов.
Результаты исследования и их обсуждение
Домашние насекомые-паразиты досаждали человеку с незапамятных времен, принося ему дискомфорт и болезни, в связи с чем сформировалось и негативное от- ношение к ним. Об этом говорят образные карельские выражения и инвективы: ažie jäi prusakoil; d́ielo jeäy prusakoil ‘дело кончилось, провалилось (букв.: дело осталось тараканам)’4; oho šie vituntäi! ‘ну ты и сволочь! (букв.: ну ты и вошь лобковая!)’ [ПМА]. Одним из источников недугов карелы считали вошь – täi5. Ее наименование является исконно прибалтийско-фин-ским6 (ср.: вепс., эст., фин., вод. täi7).
Возникновение вшей карелы объясняли иррациональными причинами. Например, у них бытовали поверья, согласно которым птицы могли быть источниками заболеваний. Одно из поверий было связано с первым весенним кукованием кукушки (у тверских карел – с криком журавля [16, 115 ]): если человек, не поев, выйдет на улицу и услышит кукушку (журавля), то, по поверью, птица сглазит его ( šittuu ‘букв.: испражнится на него’), наслав этим на человека болезнь. Олонецкие и паданские карелы указывали на конкретную болезнь – вшивость. Предположительно это верование связано с представлениями финно-угров о перелетных птицах как «птицах душ», которые улетают на зиму в царство мертвых, а весной возвращаются оттуда похудевшими и вшивыми. Вши пагубно влияют на здоровье и птиц, и людей, неся энергетику загробного мира [11, 128 ]. Демоническая природа лобковых вшей прослеживается и в карельских поговорках: Piru otti täity kopran da viškai ne akan niškah ‘Взял черт горсть вшей и бросил на лобок женщине’; Piruhäi se viškai perzien niškal kobran täyven täidy ‘И бросил черт на лобок целую горсть вшей’8.
В наречиях карельского языка зафиксированы различные наименования насекомых-паразитов, которые указывают на место их обитания:
– головная вошь täi , паразитирует только на голове человека;
– платяная, или нательная, вошь vua-te täi (‘одежда’ + ‘вошь’), turkki täi (‘шуба’ + ‘вошь’), hibjut äi (‘кожный покров; тело’ + ‘вошь’), soba täi (‘одежда’ + ‘вошь’), обитает на одежде человека;
– лобковая вошь vitun täi (‘женский половой орган’ + ‘вошь’), живет преимущественно в лобковой зоне человека.
Примечательно, что для обозначения паразитов в карельском языке использовались и различные названия-эвфемизмы: hännikäs ‘вошь (букв.: хвостатая)’ (отображает форму паразита), seizokas ‘вошь (букв.: постоялец)’ (отображает место обитания), pedrani ‘вошь (букв.: олененок)’ (отображает прыгучесть). В детской речи в качестве эвфемизмов употреблялись слова köykkö, mörgö, pöpöi, böböi, köyköni, buka, bukki, buboi, mörkö, böbö . Они в большинстве своем выполняли функцию слов-страшилок и служили для запугивания детей: Šuvimma köyköš (täis), muitein avantoh (järveh) viijäh ‘Вычешем вшей твоих, иначе в прорубь (озеро) тебя утащат’ [ПМА]. Появление таких слов в детской речи в прибалтийско-финских языках [13, 38–39 ], как и у славянских народов [6, 42 ], стало результатом табуирования.
Платяная, головная и лобковая вши, являясь синантропами, сопровождают человека на протяжении веков, о чем свидетельствует и карельская поговорка: Täi eläväššä, mato kuollehešša ‘Вошь на живом, червь в мертвом’9. В карельской культуре это насекомое предстает как символ медлительности: kuin täi ‘как черепаха (букв.: как вошь)’, kuin täi tervašša ‘медлить, копаться (букв.: как вошь в смоле)’, älä täijy sinne ‘не застрянь там (букв.: не завшивей там)’; лености: lašku täi on korvajuurel ‘лодырь (букв.: ленивая вошь сидит у виска)’10; любопытства: lit̀šoah gu täi rubeh ‘лезть не в свое дело (букв.: лезть, как вошь в оспину)’11; небольшого размера: pieni kuin vituntäi ‘маленький, как лобковая вошь’ [ПМА].
Карелы верили, что вши вылезают из-под кожи, если человеку угрожают болезнь и неприятности [8, 90 ]. Считалось, что зуд кожи был признаком появления вшей: hibju vai hiestyskendelöy, sit hibjas nouzou täidy ‘как кожа вспотеет, потом из кожи поднимаются вши’ (д. Сямозеро); vikse on täidy pääs gu nenga suvit ‘скорее всего вши у тебя, ты так чесался’ (с. Вид-лица). После укуса насекомого кожа начинала краснеть: täim purťu kohtu ruskenou ‘место укуса от вшей становится красным’ (д. Неккула, Рыпушкалица)12.
Вши у карел, как и у русских [7, 631 ], воспринимались предвестниками смерти. Существовала такая примета: если после обмывания покойника встречают вошь, которая движется к ногам, то скоро в доме умрет еще один человек, а если вошь движется к голове, то смерть не так близко [14, 97 ]. Со скорой смертью было связано и понятие hipietäi ‘подкожная вошь’, проявляющееся как тик, пульсирующее ощущение под кожей, подергивание века13 [5, 196 ].
Педикулез был обыденным делом, хотя с ним и пытались бороться всеми известными способами. Насекомых находили в голове и убивали, раздавливая тупым ножом, или вычесывали волосы частым гребнем на светлую ткань. Этот процесс описывают следующие выражения: eččie piätä ‘искать вшей в голове (букв.: искать голову)’, pityä täišotua ‘искать вшей в голове (букв.: вести войну со вшами)’. Примечательно, что для обозначения пробора на волосах в карельском языке существует образное выражение täirata ‘пробор’ (‘вошь’ + ‘дорога, путь’).
Несмотря на то что вши были довольно привычным явлением, их наличие высмеивалось и порицалось. Зараженного человека вне зависимости от пола пренебрежительно называли täi-Man’ka (‘вошь’ + ‘Манька’), täiturkki (‘вошь’ + ‘шуба’), täipešä (‘вошь’ + ‘гнездо’), täiharakka
(‘вошь’ + ‘сорока’), täibukkari (‘вошь’ + ‘пузырь’), täibukki (‘вошь’ + ‘бука’), täipešši (‘вошь’ + ‘мережа’), täibokki (‘вошь’ + ‘баран’), täibošši (‘вошь’ + ‘баран’), täikuadii (‘вошь’ + ‘штанина’). При виде чешущего голову человека в шутку ему советовали: “Kiännä šelälläh, ni ei pure” – «Переверни на спину, не укусит (вошь)» [ПМА].
Для выведения вшей карелы применяли разнообразные рациональные средства: лечебные травы, минеральные средства и др. Карелы д. Оуланка, например, с этой целью выкидывали несколько пойманных насекомых в навозную кучу (избавление от болезни «выбрасыванием») во время ущербной луны после захода солнца. Считалось, что именно в данный период можно излечиться от любого недуга [15, 245 ].
Курная баня – место, в котором с помощью дыма и жара избавлялись от вшей, развешивая одежду [3, 161 ]. Вши, как известно, плохо переносят высокую температуру. Отсюда и выражение, которое используется в критической и безысходной ситуации: “No nyt” – šano täi löylyššä. «Пора», – сказала вошь в пару [ПМА].
Ртуть ( elohopie ) являлась одним из действенных средств при выведении головных вшей. Волосы намыливались, наматывались вокруг головы, на них выливалось немного ртутных шариков. Голова туго обвязывалась платком, и человек несколько часов ходил с этой повязкой, после чего волосы мылись и сушились [ПМА]. Позднее самым распространенным и доступным способом выведения насекомых стало применение дустового мыла tustamuila . Голову намыливали, завязывали платком, а через некоторое время тщательно промывали [ПМА].
Тем не менее, согласно поверью, нельзя было убивать вшей у маленьких детей, считалось, что в противном случае дети не научатся говорить, останутся немыми [14, 39 ].
Во вшах видели причину такого кожного заболевания, как лишай. Об этом свиде- тельствует в первую очередь само карельское наименование заболевания täin/tarha ‘букв.: вшивый сад’. Не только терминология, но и обряды лечения и тексты заговоров указывают на вошь как причину возникновения недуга. Людиковские карелы при лечении лишая вылавливали вошь и протыкали ее иглой, затем иглой с нанизанным насекомым обводили больное место, произнося заговор14. Этот способ считался самым эффективным; мази и отвары приводили только к усугублению болезни: краснота и прыщи распространялись по всему телу.
У ливвиковских и тверских карел известны различные рациональные способы лечения лишая и педикулеза. Например, больного смазывали кислым тестом (д. Корбинаволок, Лахта) [ПМА] или пенкой от молока15. Тверские карелы обмывали больные места настойкой из табака, отваром из корня репейника [16, 115 ]. В д. Сямозеро образовавшиеся болячки оборачивали березовой корой несколько дней подряд, затем использованную кору, символизировавшую болезнь, выкидывали на сарай или в дырку в хлеву16. Верили, что пестрый, частично покрасневший лист березы имеет целебную силу и помогает при лечении кожного заболевания17. Лишай смазывали клюквой, собранной на Воздви-жение18, или конденсатом ikkunhigi (‘букв.: оконный пот’), скопившимся на окнах19.
Тихвинские карелы очерчивали ножом больное место крест-накрест, т. е. «резали» лишай, и трижды произносили: ‘Midä leik-kuat? – Bol’ie. – Leikkua hand enämmäldi, štob ei kivistäis’ – «Что режешь? – Боль. – Режь ее сильнее, чтобы не болело». Эффективным считалось и прижигание лишая: брали медную пуговицу, терли сильно о сучок дерева, пока пуговица не станет горячей, затем прикладывали ее к больному месту. Иногда использовали сразу оба предмета: «Я пуговицей потерла, да ножом провела круговую черту, поправилась»20.
^и1 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
Заключение
Итак, согласно верованиям карел, домашние насекомые-паразиты имеют демоническую природу, в связи с чем наделяются отрицательной коннотацией. Вошь среди домашних насекомых-паразитов наиболее широко отражена в карельской обрядовой традиции. Именно этот представитель энтомофауны, по мнению карел, служил источником кожных заболеваний, что подтверждается как языковым, так и этнографическим материалом. Кро- ме того, большое количество карельских фразеологизмов и богатая фольклорная традиция, касающаяся рассматриваемого насекомого, указывают на то, что вошь являлась частым «спутником» человека в различные периоды его жизни.
УСЛОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ вепс. – вепсский язык вод. – водский язык
ПМА – полевой материал автора фин. – финский язык эст. – эстонский язык
Поступила 22.03.2021; одобрена 02.04.2021; принята 06.04.2021.
Список литературы Энтомологические образы в верованиях карел
- Винокурова И. Ю. Вепсская мифология // Народы Карелии: ист.-этногр. очерки. Петрозаводск, 2019. С. 461-478.
- Винокурова И. Ю. Животные в традиционном мировоззрении вепсов: (опыт реконструкции). Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2006. 448 с.
- Иванова Л. И. Карельская баня: обряды, верования, народная медицина и духи-хозяева. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2016. 408 с.
- Инха И. К. В краю калевальских песен: тропой Лённрота по Беломорской Карелии; Очерк о земле Беломорской Карелии. Петрозаводск: Периодика: Юминкеко, 2019. 461 с.
- Конкка А. П. Похоронно-поминальная обрядность // Народы Карелии: ист.-этногр. очерки. Петрозаводск, 2019. С. 194-209.
- Кривощапова Ю. А. Домашние насекомые-паразиты в языке и фольклоре // Живая старина. 2005. № 4. С. 40-43.
- Логинов К. К. Похоронно-поминальная обрядность // Народы Карелии: ист.-этногр. очерки. Петрозаводск, 2019. С. 630-636.
- Никонова Л. И., Кандрина И. А. Как лечились народы Поволжья и Приуралья. Саранск: Ковылкинская районная типография, 2005. 213 с.
- Семакова И. Б., Рогозина В. В. Материалы по традиционной медицине вепсов (мифологический аспект) // Современная наука о вепсах: достижения и перспективы. Петрозаводск, 2006. С. 302-314.
- Чернов В. Н. Лекарственные растения Карелии. Петрозаводск: Госиздат КАССР, 1958. 35 с.
- Hautala J. "Käki tuo suven sanoman" (Muuttolintujen ym. pilauksesta) // Kalevalaseuran vuosikirja. Porvoo; Helsinki, 1955. No. 35. S. 123-147.
- Kansanomainen lääkintätietous / toim. M. Hako. Helsinki: SKS, 1957. 255 s.
- Nirvi R. E. Sanankieltoja ja niihin liittyviä kielenilmiöitä itämerensuomalaisissa kielissä: riista ja kotieläintalous. Helsinki: SKS, 1944. 343 s.
- Paulaharju S. Syntymä, lapsuus ja kuolema: Vienan Karjalan tapoja ja uskomuksia. Porvoo: WSOY, 1924. 186 s.
- Pentikäinen J. Marina Takalon uskonto (uskontoantropologinen tutkimus). Helsinki: SKS, 1971. 388 s.
- Virtaranta H., Virtaranta P. Kauas läksit karjalainen: matkamuistelmia tverinkarjalaisista kylistä. Porvoo: WSOY, 1986. 320 s.