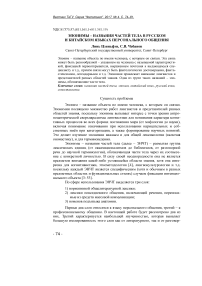Эпонимы - названия частей тела в русском и китайском языках персонального общения
Автор: Линь Цзиньфэн, Чебанов Сергей Викторович
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Исследования лексики и грамматики
Статья в выпуске: 4, 2017 года.
Бесплатный доступ
Эпоним - название объекта по имени человека, с которым он связан. Эта связь может быть разнообразной - указанием на человека с называемой характеристикой, фиксацией первооткрывателя, выражением почтения к выдающемуся специалисту и т.д., причём связи могут быть фактологически достоверными, фантастическими, легендарными и т.д. Эпонимия привлекает внимание лингвистов и представителей разных областей знания. Одна из групп таких названий - эпонимы, обозначающие части тела.
Названия частей тела, эпоним, китайский язык, русский язык, сопоставление
Короткий адрес: https://sciup.org/146278372
IDR: 146278372 | УДК: 81''373:57:(811.161.1+811.581.19)
Текст научной статьи Эпонимы - названия частей тела в русском и китайском языках персонального общения
Сущность проблемы
Эпоним - название объекта по имени человека, с которым он связан. Эпонимии посвящено множество работ лингвистов и представителей разных областей знания, поскольку эпонимы вызывает интерес с точки зрения антропоцентрической сверхпарадигмы лингвистики для понимания характера когнитивных процессов во всех формах постижения мира (от мифологии до науки), включая понимание означивания при использовании нарицательных и собственных имён при категоризации, а также формирование научных понятий. Это делает изучение эпонимии важным и для общей лексикологии (включая ономастику), и для терминоведения.
Эпонимы - названия частей тела (далее - ЭНЧТ) - размытая группа лексических единиц (от окказиционализмов до библеизмов, от разговорной речи до научной терминологии), обозначающая части тела через их соотнесение с конкретной личностью. В силу своей неоднородности она не является предметом внимания какой-либо устоявшейся области знания, хотя она интересна для когнитивистики, этнометодологии [4], лингвокультурологии и т.д. поскольку каждый ЭНЧТ является специфическим (хотя и обычным в разных предметных областях и функциональных стилях) случаем фиксации интенционального объекта [3: 53].
По сфере использования ЭНЧТ выделяется три слоя:
-
1) нормативной общелитературной лексики;
-
2) лексики повседневного общения, включающей речения, переносимые из средств массовой коммуникации;
-
3) номенов подъязыка анатомии.
Первые два слоя относятся к языку персонального общения, третий - к профессиональному общению. В настоящей работе будет рассмотрено два из них. Третий характеризуется наибольшей изученностью, которая выявляет большую изолированность этого слоя как от литературного, так и от разговор- ного языка, дублируется латинскими названиями, связан с естественнонаучной лексикой. Он будет предметом рассмотрения в отдельной статье.
Эпонимы - названия частей тела в литературном языке
В русской общелитературной речи ЭНЧТ крайне редки, их нет в списках Сводиша [26], а встречаются они в высоком стиле речи с выраженной поэтико-патетической окраской. Таковы библеизм адамово яблоко [7] и мифоним ахиллесово сухожилие (старинная форма ахиллова жила ). Они характерны для письменной речи, понятной образованному читателю (который может и неправильно их интерпретировать - скажем, соотнося аридовы веки с глазом, а не с возрастом из-за использования церковнославянской формы «веки», а не «века»), который для полного прояснения их смысла может обращаться к специальным словарям (например, [15]).
Подобные ЭНЧТ, пересыщенные смысловыми связями, имеют крайне сложный, а поэтому и неустойчивый, семиотический статус. Так, ахиллова жила превращается не только в специальный анатомический номен ахиллесово сухожилие , но и в разговорный жаргонизм ахилл (а - строчное), бытующий среди врачей и в спортивной или околоспортивной среде, перемещаясь из первого слоя ЭНЧТ в область специальной лексики и в лексику повседневного общения. Аналогично в последний слой лексики через ироническое (включая самоиронию) употребление попадает и адамово яблоко , размер которого среди демонстративно брутальных мужчин, претендующим на мачизм [13], оказывается тем, чем можно мериться в состязаниях за мужское лидерство.
Ещё сложнее семиотический статус эпонима адамова голова . Строго говоря, это название изображения (живописного, графического или скульптурного, включая ювелирные изделия) черепа с перекрещенными костями, идентифицируемыми как бедренные (что интересно для формальной мерономии, изучающей членение целого на части [21; 22]; адамова голова - редкий случай несвязного мерона из трёх фрагментов; ср., однако, отличие аппарата - например, эндокринного - от системы органов - например, пищеварительной системы [2: 4]).
Происхождение этого изображения связано с преданием о распятии Христа на Голгофе на месте захоронения Адама, что соотносит рассматриваемое выражение с библеизмами. Далее этот образ развивается в разных направлениях, превращаясь в эмблему различных армий, в Весёлого Роджера пиратов, в знак, предупреждающий об опасности ядов или высоковольных электрических сетей, в эмблему мировой пиратской партии [1] или в девичий брелок [24]. При этом нередко он выступает как обозначение любого человеческого черепа - части тела - костного компонента головы.
Не менее сложна семантика выражения Авраамово лоно , хотя и отсылающего к лонному сочленению (лобковому симфизу) человеческого тела, в библейской традиции не имеющее ясной семантики, что позволяет трактовать его как обозначение Рая [23].
Ещё одно выражение этого ряда - рука Немезиды - греческой богини правосудия, изображаемой в виде крылатой женщины с уздой и мечом в руках, - обозначает силу и власть государственного суда. К этому же ряду относится и голова Медузы – единственной смертной из трёх горгон, приводившей в ужас змеями в качестве волос (ср. в патанатомии: голова Медузы – caput Medusae – варикозное расширение вен брюшной стенки вокруг пупка при застое в системе воротной вены [6: 18]).
Довольно многочисленны, хотя крайне низкочастотны, ЭНЧТ, выступающие в качестве номенов. При этом персонажи, фигурирующие в ЭНЧТ, являются личностями легендарными или мифологическими, что, в числе прочего, предполагает появление множества народных этимологий будь то названия созвездий или фитонимы – названия трав [19]. Так, название созвездия «волосы Вероники» отсылает к волосам Береники (Вероники) – жене египетского царя Птолемея III Эвергета, «Млечный путь» может называться Богоро-дицыными волосами , «папоротник» Adiantum capillus-veneris ( волосы Венеры ) именуется так за сходство тонких чёрных стеблеобразных рахисов с волосами, наличие которых предполагается у богини Венеры , а фитоним анютины глазки (относимый к разным растениям, например, «фиалке трёхцветной» – Víola trícolor или Марьяннику дубравному – Melampyrum nemorosum, принадлежащим разным семействам) имеет неясное происхождение, порождающее множество легенд [9], которые могут стать содержанием беллетристического произведения (см.: [16]; там эти цветы выступают как «выплаканные» глаза красавицы Анюты, к которой в назначенное время не приезжает жених).
Рассматривая слёзы как часть тела, можно обратить внимание на систематическое повторение образа слёз святых в фитонимике [19]: Иовлевы слёзы [8], слёзник Cóix lácryma-jóbi – тропическое растение рода Коикс семейства Злаки [20] или трясунка ( Briza), называемая по-русски слёзы Богородицы или Богородицыны слёзки [10], а по-испански Lágrimas de la Virgen María («Слёзы Девы Марии»). Последний пример иллюстрирует сходные закономерности нейминга растений в разных языках [12; 19].
К подобным наименованиям примыкает наименование усохшей ноги ногой Бабы-Яги – костяной ноги [14; 17], определяя тем самым настороженное отношение к её обладателю.
Этот ряд примеров свойственен не языку в целом, а его диалектам (см. примеры в [5]) или более мелким общностям людей (вплоть до семей), а поэтому такой материал попадает во второй слой ЭНЧТ.
ЭНЧТ этой группы обладают общими особенностями.
-
1. Это указание на части тела легендарных лиц, детали строения которых достоверно неизвестны (слёз Богородицы, черепа Адама или глаз Анюты), придуманы путём уподобления тел божеств телам людей. Их руки, ноги, глаза и т.д. являются метафорами, квалифицируемыми как когнитивные [11], что согласуется с трактовкой представлений о божествах в политеистической мифологии как ранних стадиях богопознания, позже сменяемое монотеизмом (ср. идею организации человека по образу и подобию Божьему в христианстве). Атеистическое понимание божеств как проекции человеческого на небо соответствует трактовке указанных примеров как метафор-тропов.
-
2. Именование части тела легендарного существа подвергается метафорическому переносу на эмпирически данную реалию – астрономический объект, растение (тогда ЭНЧТ обозначают не части тела, а совершенно другие реалии) или часть тела человека (ахилл, адамово яблоко). В последнем случае - 76 -
- имеет место генерализующая метонимия (пята Ахиллеса предстает как ахилл у всех людей, а адамово яблоко как кадык у всех мужчин).
-
3. ЭНЧТ является итогом сложного развития семантики прямого значения, что обеспечивает их стилистическую маркированность и характерность для книжной речи или высокого пласта устной нормативной литературной речи (с библеизмами и мифологизмами).
-
4. Указанная модель образования ЭНЧТ является продуктивной и обеспечивает развитие других слоёв ЭНЧТ.
-
5. Такие ЭНЧТ могут образовываться безаффиксным способом от они-ма ( ахилл, голова Адама, рука Немезиды ).
В отличие от русского в китайском языке нет оригинальных ЭНЧТ. Однако, существуют:
-
а) фразеологизмы с антропонимами без обозначения частей тела, например, ^П^-^ - ‘играть в ножички перед Лу Паном’ (Й : Лу Пан - древний искусный мастер: перед Лу Паном играть в ножички означает ‘хвастаться перед мастером’), Й^ЙЙ ( Й : Пан Гу; Й : Сун Ю: хвалить стихи Пан Гу и Сун Ю - ‘великолепная поэзия’);
-
б) фразеологизмы, содержащие обозначения частей тела без антропонимов, такие как йййЖ (дурная рука и нога - ‘неловкий человек’), ЙЙЙЙ (дурная голова - ‘глупого человека’), ЬЬЙЙЙ (‘стоять плечом к плечу, т.е. близко стоять’), *$HBb№№S (закрыть глаз и поймать воробья - ‘обманывать себя или делать слепо’), ^fgi&b (‘каждая часть тела тесно связана с сердцем’, а если говорят о человеке то ‘каждый человек связан с родственниками’), ^Й^^ (‘очень крепкая дружба между людьми, как между братом и сестрой’; здесь части тела: й - рука, й - нога), ШШПМ (‘очень сильно удивляться или переживать’; здесь части тела: Ц - глаза, □ -рот).
Итак, в русской общелитературной нормативной речи ЭНЧТ крайне малочисленны, а в текстах очень низкочастотны. В китайском языке их практически нет.
Эпонимы - названия частей тела в повседневной речи
Второй пласт ЭНЧТ представлен в повседневной разговорной речи и в языке СМИ. Речь идёт о персонах, имеющих бросающиеся в глаза особенности внешности. Такие особенности помогают узнавать этих персон, а их называние по имени общеизвестного лица может быть использовано при создании словесного портрета любых людей. Таковы борода Маркса , усы Сталина , усы Будённого или усы Сальвадора Дали, брови Брежнева и т.д.
Такие нейтральные выражения могут стать оценочными, причём эта оценочность может закрепляться в культуре (рыжие якобы бесстыжие, курносые как будто бы смешные, худые - злые и т.п.). Тогда, например, публичный человек может оказаться объектом острот, от которых он пожелает оградить себя (например, запрет Павлом I слова курносый). Предметом насмешек может ситуативно стать и такая деталь, как финансовые и временные расходы на уход за бородой К.Маркса на фоне его всемирно-исторической миссии. При этом подобные остроты могут выстраиваться в цепочки, например, можно представ лять эволюцию коммунистических лидеров через сокращение и перемещение растительности на их лице: борода Маркса - бородка Ленина - усы Сталина -брови Брежнева. Понятность этой конструкции определяется принадлежностью этих ЭНЧТ русскому языку. Подобные ЭНЧТ могут соотноситься и с придуманными антропоморфными существами, оказываясь понятными носителям языка, использоваться при создании словесного портрета (нос Буратино, уши Чебурашки, ушки Микки Мауса).
В малых сообществах (в семье, у жителей городского квартала, деревни) могут быть подобные ЭНЧТ, понятные только членам этого сообщества ( уши дяди Пети, руки бабы Поли ), что указывает на статус таких ЭНЧТ как свободных словосочетаний.
Для китайского языка подобные ЭНЧТ нехарактерны. Однако они приходят в него из мультфильмов и бытовой низовой мифологии (нос определённой формы обозначается как ‘нос дяди Хуана’ 胡安叔叔的鼻子 , а человек с красным лицом как ^Ж,^^^ - ‘краснолицый Гуань Гун’). Примечательно, что ЭНЧТ данного пласта обозначают не некоторую часть тела, а части тела с характерной чертой, которая присуща только некоторым (вплоть до уникальных) реализациям данной части тела.
В последнем случае ЭНЧТ данного пласта могут относится к самым возвышенным реалиям. Таков образ Богоматерь блаженное чрево - «Богоматерь» в этом выражении выступает в качестве онима и через него именуется единственное чрево как часть тела. Существует и особый культ (с развитой иконографией) Святейшего Сердца Иисуса Христа или Пресвятого Сердца Иисуса Христа , наименования которого отсылают к части тела (Сердцу) уникальной персоны - Иисуса Христа. Поскольку это культ католический, его название находится на периферии русской языковой картины мира. В католичестве же Праздник Святейшего Сердца Иисуса следует за Праздником Тела Христова, обозначенным ещё одним ЭНЧТ обсуждаемого типа.
Существует сходная конструкция и в китайском языке: ‘глаза Ли Те-гуйаня’ КВв^®^ (Ли Тегуйань - в мифологии хромой человек с круглыми чёрными глазами, часто помогающий больным), ‘сердце Пигайна’ ЬБ^^'Б (Пигайн - сказочный человек с семью сердцами, ныне ^^й^^ - ‘с сердцем Пигайна’ - говорят про очень доброго человека).
Последние примеры показывают, что ЭНЧТ могут обозначать метафорами нетелесные составляющие человека. Таковы не только сердце Пигайна, но и руки Берии . Однако, если принимать реальность хотя бы некоторых из различаемых в эзотерике семи тел - физического, эфирного, астрального, ментального, каузального (манаса), атмического и тела буддхи [18], то за приведёнными выражениями стоит и некоторая неметафорическая реальность. В этом же контексте приобретают прямое значение и такие ЭНЧТ, как душа Пушкина или дух Достоевского.
Заключение
Полученные результаты рассмотрения ЭНЧТ представляют интерес для культурной антропологии и лингвистики, поскольку способствуют пониманию механизмов языковой номинации и их вклада в формирование национальной культуры. Эти данные интересны и для понимания способов обогащения лексики, понимания механизмов словообразования. Анализ рассмотренных ЭНЧТ с позиции описательной и когнитивной психологии демонстрирует, что в их формировании участвуют не только элементарные механизмы рецепции и перцепции, но и обращение к сложным культурным контекстам и ассоциациям, что указывает на необходимость построения психологии как гуманитарной науки, вскрывая недостатки сугубо естественнонаучного подхода.
Поскольку порождение ЭНЧТ является актом литературного творчества на грани искусства и науки, появление ЭНЧТ влияет на развитие языка и литературный процесс, а тем самым и на формирование общественного сознания.
Сопоставление русских и китайских ЭНЧТ позволяет сделать следующие выводы.
-
1. ЭНЧТ используются в обоих языках, причём в персональном общении выделяется два их пласта (помимо профессионального общения).
-
2. Общелитературных ЭНЧТ в русском очень мало, а в китайском совсем нет, причём русскоязычные ЭНЧТ обладают переусложнённым семиотическим статусом, указывающем на то, что они не свойственны русской речи.
-
3. ЭНЧТ в повседневной речи не часты как в русском, так и в китайском языках, причём выделяются сходные подгруппы, некоторые из которых также обладают переусложнённым семиотическим статусом.
-
4. Между разными пластами ЭНЧТ нет жёстких границ – есть постоянная двунаправленная связь общелитературного и профессионального языка, взаимодействие общелитературного нормативного и разговорного языка и т.д.
-
5. При редкости ЭНЧТ в обоих языках они более характерны для русского языка, чем для китайского.
Авторы благодарят всех проявивших интерес к работе и внёсшим вклад в её улучшение, – М.Д. Голубовского, В.П. Захарова, В.Л. Каганского, В.М. Мокиенко, Ю.П. Нешитова, М.В. Оборину, Т.Г. Петрова, А.П. Расницына, Б.Б. Родомана, Т.А. Тёмкину и О.Б. Трубникову.
Список литературы Эпонимы - названия частей тела в русском и китайском языках персонального общения
- Адамова голова (символ) /URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0_ %D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0_(%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB) 2017 (дата обращения: 10.10.2017).
- Анатомия человека. Т. 1. М.: Медицина, 2001. 640 с.
- Гайденко П.П. Проблема интенциональности у Гуссерля и экзистенциалистская категория трансценденции//Современный экзистенциализм. Критические очерки. М.: Мысль, 1966. С. 77-107.
- Гарфинкель Г. Исследования по этнометодологии. СПб.: Питер, 2007. 336 с.
- Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка в 4 т. М.: АСТ, 2006. 1155 с.
- Денисов С. Д., Пивченко П. Г. Эпоним в анатомии. Минск: БГМУ, 2012. 67 с.
- Дубровина К.Н. Энциклопедический словарь библейских фразеологизмов. М.: Флинта, Наука, 2010. 808 с.
- Иовлевы слёзы /URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B_%D1%81%D0%BB%D1%91%D0%B7%D1%8B (дата обращения: 10.10.2017).
- Квашнина В.В. Гендерный аспект в легендах о народных названиях растения Фиалка трёхцветная Viola tricolor/URL: http://sofik-rgi.narod.ru/avtori/konferencia/kvashnina.htm (дата обращения: 10.10.2017).
- Колосова В.Б. Богородичные травы в русской культуре//Русская речь: журнал, 2010. №4. С. 98-104.
- Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. М.: Едиториал УРСС, 2004. 256 с.
- Лейчик В.М. Обсуждение проблем эпонимии в современной науки //Ассоциация лингвистов-экспертов Юга России/URL: http://www.ling-expert.ru/conference/langlaw1/leitchik_epomyms.html (дата обращения: 13.05.2016).
- Ляленкова Т. Мужчина и женщина. Феномен мачизма//Радио Свобода. 9 апреля 2006 /URL: https://www.svoboda.org/a/137323.html (дата обращения: 10.10.2017).
- Пропп В.Я. Костяная нога//Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. М.: Лабиринт, 2000. С. 36-89.
- Серов В.В. Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений. М.: Локид-Пресс, 2005. 880 с.
- Снегова С. Анютины глазки /URL: http://kladovay.ucoz.ru/publ/izbrannoe_proza/ssnegova/178-1-0-249 (дата обращения: 10.10.2017).
- Степанов Ю.С. Баба-Яга//Степанов Ю.С. Константы. Словарь русской культуры. Опыт исследования. М.: Языки русской культуры, 1997. С. 855-864.
- Стульгинскис С.В. Космические Легенды Востока. М.: Сфера, 2008. 288 с.
- Суперанская А.В. Общая теория имени собственного. М.: Наука, 1973. 366 с.
- Шрётер А. И., Панасюк В. А. Словарь названий растений. Koenigstein: Koeltz Scientific Books, 1999. 1033 с.
- Чебанов С.В. Теория классификаций и методика классифицирования//НТИ. Серия 2. № 10, 1977. С. 1-10.
- Чебанов С.В. Мерономия С.В. Мейена: к 40-летию формулирования//Lethaea rossica. 2017. Т. 14. C. 64-92.
- Яворский С. Камень веры Православно-Кафолической Восточной Церкви. М.: Издательство Московской Патриархии, 2017. 834 с.
- Яцутко Д. Зачем носить череп в сумочке//re:акция, № 42, 4 декабря 2006 -14 декабря 2006 /URL: http://www.reakcia. ru/article/?1375.
- Husserl E. Ideas: General Introduction to Pure Phenomenology. New York: Collier Books. 1962. 446 p.
- Kassian A., Starostin G., Dybo A., Chernov V. The Swadesh wordlist. An attempt at semantic specification//Journal of Language Relationship, 2010, No. 4. P. 46-89.