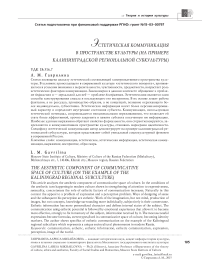Эстетическая коммуникация в пространстве культуры (на примере калининградской региональной субкультуры)
Автор: Гаврилина Лариса Михайловна
Журнал: Вестник Московского государственного университета культуры и искусств @vestnik-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 4 (66), 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу эстетической составляющей коммуникативного пространства культуры. В условиях происходящего в современной культуре «эстетического поворота», проявившегося в усилении внимания к выразительности, чувственности, предметности, возрастает роль эстетических факторов коммуникации. Закономерно в данном контексте обращение к проблеме выражения и - зеркальной для неё - проблеме восприятия. Эстетическими являются сами способы конструирования смысла и последующего его восприятия. В их основе лежит работа фантазии, а не рассудка, производство образов, а не концепций, познание окружающего более индивидуально, субъективно. Эстетическая информация носит более персонализированный характер и определяет внутренние состояния субъекта. Коммуникация, использующая эстетический потенциал, сопровождается эмоциональными переживаниями, что позволяет ей стать более эффективной, прочно закрепить в памяти субъекта полученную им информацию. Наиболее удачные выражения обретают свойство формульности, они стереотипизируются, закрепляются в коммуникативном пространстве культуры, становясь маркерами идентичности. Специфику эстетической коммуникации автор демонстрирует на примере калининградской региональной субкультуры, которая представляет собой уникальный социокультурный феномен в современной России.
Коммуникация, эстетическое, эстетическая информация, эстетическая коммуникация, выражение, восприятие, образ мира
Короткий адрес: https://sciup.org/144160932
IDR: 144160932 | УДК: 18:316.7
Текст научной статьи Эстетическая коммуникация в пространстве культуры (на примере калининградской региональной субкультуры)
коммуникативная природа культуры сегодня является предметом исследования во многих на прав ле ни ях со ци аль но-гу ма ни тар но-го и философского знания. представление о том, что мир культуры формируется в процессе коммуникации, а пространство культуры — это пространство коммуникации, в хх веке стало общепринятым. культура рассматривается как система надындивидуальных приёмов, технологий, смыслов, которые распространяются негенетическим путём, в знаковой форме в процессе коммуникации. утверждается широкое понимание коммуникации: это не только обмен информацией, рождение новой, переосмысление старой, но, по сути, весь процесс конструирования социума, формирования культурного универсума. по известному выражению одного из осново-по лож ни ков ком му ни ка ти ви сти ки М. Мак лю-эна: «среда есть сообщение» (“the Medium is the Message”) [10].
коммуникация в культуре многообразна, полиморфна, идёт по множеству каналов, генерирует различные коды, использует разнообразие языков, знаков и знаковых систем, затрагивает все стороны бытия. в рамках коммуникативистики — стремительно развивающейся отрасли современного знания — сложились разные подходы к анализу ком му ни ка ции, объ ек том ис сле до ва тель ско-го внимания стали лингвистические, семиотические, социальные, психологические, эстетические её аспекты. интерес к последнему особенно возрос в конце XX — начале XXI века в контексте «эстетического поворота». Это понятие фиксирует, по мнению исследователей, важнейшие сдвиги в современной культуре, выразившиеся в эстетизации действительности, усилении значимости эстетического модуса разных сфер деятельности. «Эсте ти че ский по во рот» вы ра зил ся в фор ми ро ва-нии особой ориентации мысли, отражающей большее внимание к выразительности, чувственности, предметности, очевидности, событийности. по мнению российского исследова-те ля а. а. Гря ка ло ва, ро ж даю щий ся се го дня «homo aestheticus — существо интенсивно переживаемого опыта, представления которого понуждают к пристальному всматриванию и вслушиванию в мир» [5, с. 50].
Закономерно в данном контексте обращение к проблеме выражения и — зеркальной для неё — про бле ме вос приятия . Эта тема стала одной из центральных в различных направлениях эстетической мысли хх века. Б. кроче определил эстетику в целом как нау ку о вы ра же нии [8], а. ф. ло сев уточ нил: «эстетика — наука о всевозможных типах выражения внутреннего во внешнем, то есть наука о выразительности вообще» [9, с. 391— 393]. центральной проблемой в данном контексте становится понимание того, как вопло-ща ет ся во внеш нем (в ви зу аль ной, ау ди аль ной форме) внутреннее (смысл), и возможен ли для реципиента обратный путь: через внешнее (чувственно воспринимаемое) — к внутреннему. Эстетической является не только внешняя форма, не только выражение, но и сам способ кон ст руи ро ва ния смыс ла. Б. кро че ис ходил из того, что выразительная форма несёт в себе интеллектуальную информацию, которую субъект восприятия может получить путём интуитивного, а не логического познания. интуитивный тип познания основан на работе фантазии, а не разума, производстве образов, а не концепций, направлен на познание индивидуального, а не универсального.
Эти идеи получили развитие в трудах а. Мо ля. в 1958 го ду он вы пус тил по лу чив-шую широкую известность книгу «теория ин-фор ма ции и эс те ти че ское вос при ятие» [11], в которой пытался применить данные теории информации к анализу эстетического восприятия, для чего ему пришлось обратиться за помощью к психологии. а. Моль выделил два типа информации: семантический и эстетический. первая подчиняется универсальной логике, переводима на другие языки, она подготавливает действия . вторая, напротив, непереводима на другой язык, потому что другого языка для передачи этой информации попросту не существует, она носит более персонализированный характер и опреде-ля ет внутрен ние со стоя ния [11, с. 201—209].
вз а и мод ейс т вие э ти х т и пов ин форм а ц и и а. Моль рассмотрел на примере разных видов искусства и показал, что в музыке количество семантической информации минимально, а эстетической — чрезвычайно велико. соотношение между типами информации, по его мнению, может меняться: «в журналистике практика переделки статей показывает, что литературная обработка снижает количество семантической информации на символ за счёт повышения эстетической информации в сооб-ще нии» [11, с. 211]. при этом важ но от ме тить, что а. Моль не свя зы вал эс те ти че скую информацию только с искусством. важный вывод исследователя связан с открытием зависимости эстетической информации от канала её передачи, то есть её непереводимость.
на эти важнейшие для понимания эстетического идеи опирается сложившийся в со-вре мен ном со ци аль но-гу ма ни тар ном зна нии дискурс по поводу феномена эстетической ком му ни ка ции , ба зо вым ма те риа лом для которого является анализ коммерческой и политической рекламы, дизайна, имиджелогии. с. а. дзи ке вич [6] оп ре де ля ет эс те ти че ское как «не вер баль ное ин тел лек ту аль ное по знание и не вер баль ную ин тел лек ту аль ную комму ни ка цию» и ана ли зи ру ет его че рез по ня тия «эстетический опыт», «эстетическое существо ва ние», «вчув ст во ва ние», «вы ра зи тель ная фор ма», «геш тальт». оп ре де ляя эс те ти че скую коммуникацию, исследователь использует понятия «органическая реакция» и «органическая мотивация». последнюю он трактует как «такой случай мотивации, когда информация, которая в принципе выразима в форме языка, не является непосредственно решающей для того, чтобы жизнь субъекта далее приняла вид поведения того или другого вида. Это предполагает мотивацию не извне, но изнутри ор га низ ма, что воз мож но толь ко че рез укрепление в долговременной памяти субъекта информации о достаточно интенсивных эмоциях, отнесённых к весьма обширному интел лек ту аль но му со дер жа нию» [6, с. 27].
Эстетическую коммуникацию, таким образом, можно определить как процесс переда- чи ин туи тив ной (Б. кро че) или эс те ти че ской (а. Моль) ин фор ма ции, ко то рая мо жет сопровождать, поддерживать и усиливать информацию логическую (Б. кроче) или семан-ти че скую (а. Моль). Эс те ти че ская ком му ни-кация, на наш взгляд, является составляющей всех коммуникационных процессов. Эстетическая информация, дополняющая семантическую, передаётся недискурсивным способом, усиливая эффективность коммуникации в целом. вероятно, более точным будет говорить об эстетическом модусе коммуникации. там, где есть реакция на форму (вещи, изображения, высказывания и т.д.), которая может нравиться или не нравиться (в силу внутренней органической реакции), притягивать или отталкивать, на основе которой может возникнуть цепочка ассоциаций, игра воображения, родиться эстетическая идея, — там, вероятно, можно говорить об эстетическом модусе того или иного явления или вида деятельности (коммуникации, спорта, политики, рекламы и т.д.). чем более значима доля эстетической информации в коммуникативном процессе, тем более сильную эмоциональную реакцию он способен вызвать у реципиента и да же, ис поль зуя тер ми но ло гию а. Мо ля, спо-со бен опре де лять его внутрен нее со стоя ние.
тот факт, что коммуникация, использующая эстетический потенциал, сопровождается более или менее интенсивными эмоциональными переживаниями, позволяет ей стать более эффективной, прочно закрепить в памяти субъекта полученную им информацию. наиболее удачные выражения обретают свой-ст во фор муль но сти, сте рео ти пи зи ру ют ся, ха би туа ли зи ру ют ся, ле ги ти ми зи ру ют ся, закрепляются в коммуникативном пространстве культуры, становясь маркерами идентичности. Этот процесс прекрасно описали теоретики социального конструктивизма п. Бер гер и т. лук ман [2]. спе циа ли сты вы де-ляют в коммуникативном пространстве первичные и вторичные коммуникативные процессы. последние связаны с обсуждением и рас про стра не ни ем пер вич ной ин фор ма ции. так, в актах коммуникации закрепляются наиболее яркие образы, складываются дискурсы вокруг тех или иных тем, формируются концепты, содержательная ёмкость которых фиксируется, кристаллизуется в текстах культуры. Эстетически привлекательная форма делает их легко узнаваемыми и убедительными для субъектов коммуникации.
отмеченные выше особенности эстетической коммуникации мы хотели бы продемонстрировать на примере калининградской ре-гио наль ной суб куль ту ры (да лее — крс), которая представляет собой уникальный социокультурный феномен в современной россии, начавший складываться после великой отечественной войны (1941—1945), но обретший свою выраженную форму в конце XX века.
региональная субкультура представляет собой особым образом организованное и содержательно наполненное культурное пространство, в основе которого — специфический образ мира : «когнитивная структура, которая интегрирует всю систему когнитивных приобретений субъекта <…>, включает как неосознаваемый компонент — способы восприятия и интерпретации действительности, так и осознаваемый — знания об окружающем мире в узком смысле слова» [1, с. 567]. в образе мира (в отличие от картины мира) преобладает именно чувственно-образная составляющая, заметную роль играют эстетические факторы. образ мира представляет собой важнейший механизм социокультурной адаптации человека, он репрезентируется в многочисленных текстах культуры, в том числе и художественных. Мы полагаем, что в коммуникативном пространстве крс на базе осмыс-ления/переживания её специфических реалий сложился калининградский локальный сверхтекст [4], ко то рый яв ля ет ся се мио ти че ской манифестацией субкультуры и репрезентацией её образа мира.
калининградский образ мира складывался в весьма сложных условиях. «вектор восприятия восточной пруссии был задан ещё во время войны, — считает калининградский историк ю. в. костяшов. — Это была первая германская земля, на которую вступили пе- решедшие в наступление части красной армии. вот почему концентрация ненависти к вра гу здесь дос тиг ла мак си му ма» [7, с. 11]. Этому способствовал сложившийся после войны устойчивый политический дискурс, направленный на формирование негативного образа региона, через внедрение в сознание жителей определённых стереотипов, клише, в которых семантическая информация мощно поддерживалась эстетической, апеллирующей к чувственному, образному, ассоциативному восприятию. в различного рода текстах — в газетах, брошюрах, листовках, лекциях — подчёркивалась мрачность, угрюмость, тяжеловесность прусской архитектуры, невыразительность и непривлекательность городов, их казарменный характер. «Мрачная ци-та дель», «ло го во фа ши ст ско го зве ря» и то му подобные клише должны были вдохновить переселенцев на то, чтобы стереть с лица земли «всю омерзительную погань прусского юнкер ст ва и фа ши ст ско го изу вер ст ва» [7, с. 11].
при этом, как показали исследования [3], собственная реакция первых советских переселенцев, прибывших на территорию восточной пруссии, была не столь однозначной. с одной стороны, это было «логово врага», пусть и разрушенное, и переселенцев ужасала жуткая картина изуродованного, разрушенного войной города, по которому бегали полчища крыс. с другой стороны, они не могли сдержать восхищения красотой города, сохранившейся островками среди дымящихся руин. Многим переселенцам, приехавшим из российской глубинки, представшая перед ними картина, несмотря на разрушения, показалась почти сказочной: красивые дома с высокими красными черепичными крышами, ухоженные сады, реликтовые деревья, витые чугунные решётки и скамейки, чистая прего-ля, бо га тая ры бой [3]. Эти кон тра сты, вза им-но усиливая друг друга, способствовали возникновению когнитивного диссонанса, а это, в свою очередь, стимулировало активную рефлексию по поводу новой родины.
калининградский текст фиксирует специфический локальный образ мира, который складывался в результате переживания/ос-мыс ле ния/оцен ки при род но го, со ци аль но го и куль тур но го ок ру же ния. он стал ак ту аль ным в постперестроечное время, на рубеже веков, хотя истоками уходит в послевоенное прошлое, в 1950—1960-е годы, когда новые жители области, сколько-нибудь освоившись на чужой земле физически, начали её символическое освоение. наблюдаемые реалии и эмоциональное их переживание фиксировались в высказываниях, образах, стереотипах, складывались формулы, утверждались концепты — сложные соединения знания и эмоционально го его пе ре жи ва ния.
Эстетическая составляющая образа мира всегда достаточно существенна. в калининградской ситуации эстетическая информация, которая могла вызвать хоть какие-то положительные эмоции, возможно, была особенно значимой, поскольку семантическая информация, особенно в первые послевоенные годы, была преимущественно негативной. политические, идеологические, истори-че ские, со ци аль но-пси хо ло ги че ские, со цио-культурные факторы так или иначе были связаны с войной, противостоянием, ненавистью к захватчикам, неприятием «вражеского», «чу жо го», они «ра бо та ли» на от ри ца ние, отторжение. с таким психологически некомфортным эмоциональным фоном невозможно было успешно восстанавливать разрушенное, строить что-то новое. люди нуждались в каких-то позитивных эмоциях, которые могла вызвать эстетическая информация (чувственно воспринимаемая, внепонятийная, неутилитарная, вызывающая сильные переживания). в официальной пропаганде долгое время доминировал образ «мрачной цитадели», а в обыденной культуре начал формироваться дру гой образ мес та. от дель ные его эле мен ты по сте пен но «про са чи ва лись» на стра ни цы местных газет, журналов, в выставочные залы и музейные экспозиции, во всей полноте его наличие стало очевидным лишь в постперестроечные времена, когда вдруг выяснилось, что каждый второй калининградец — археолог-любитель, собиратель довоенных артефактов, коллекционер открыток и фотографий с видами кёнигсберга и т.д. неудовлетворённость серой стандартной застройкой 1960—1970-х годов стимулировала интерес как к реально сохранившимся фрагментам довоенного города, так и к мифологизированному образу кёнигсберга, который превратился в город-призрак, существующий в зазеркалье. образ «ко ро лев ско го го ро да», «се вер ной ве не ции» широко представлен на почтовых открытках с видами города, фотографиях старого кёнигсберга, картинах современных художников.
Можно утверждать, что в коммуникативном пространстве крс сначала в имплицитной, позже в эксплицитной форме закрепились эстетически значимые элементы калининградского образа мира, ставшие главными топосами калининградского текста и маркерами калининградской региональной идентичности. сложился некий набор семантических единиц, широко используемых в искусстве, рекламе, в политических слоганах и т.д. причём само наличие эстетически значимой формы, сделав их внешне привлекательными, определило степень их влиятельности. укажем на некоторые из них.
Природно-климатические маркеры: 1. своеобразный, легко узнаваемый ландшафт, спокойный, не поражающий какими-то выдающимися красотами: серовато-стальное седое (не лазурное!) море, песок, дюны, сосны, перелески, липовые аллеи вдоль дорог. 2. особая «калининградская погода»: не самая комфортная, с частыми дождями, ветром и штормами (своеобразный погодный дискурс). 3. Янтарь (пол но цен ный «ян тар ный дис курс»).
Мар ке ры куль тур но го ланд шаф та: 1. Шпили старого кёнигсберга: высокие завершения замковых и храмовых башен. силуэт города с ними — совсем иной, нежели у русских городов с колокольнями и золотыми куполами церквей. реальные шпили почти не сохранились, были разрушены, но на открытках, фотографиях, картинах их огромное множество. 2. Замок, которого нет уже 45 лет, живёт в сознании горожан, он абсолютно узнаваем, его абрис представлен повсеместно: на открыт- ках, в сувенирной продукции, в заставках интернет-сайтов и т.д. 3. собор XIv века в стиле северогерманской кирпичной готики, стоявший полвека в руинах, ныне реконструированный, оживший. 4. Городские ворота, форты, бастионы из красного кирпича в стиле северогерманской кирпичной готики. 5. фахверковая конструкция, которая сегодня зачастую обыгрывается как декорация. 6. черепичные крыши жилых домов особой формы. 7. руины — неотъемлемая часть калининградского пейзажа, опоэтизированная в художественном словесном творчестве и живописи. 8. водонапорные башни, каждая из которых имела собственный архитектурный облик. Многие из них сегодня — чуть ли не единственная привлекающая взор вертикальная доминанта в небольших городках и посёлках. 9. водопроводные и канализационные люки, пожарные гидранты — чисто утилитарные, технические объекты, ставшие предметом эстетической рефлексии. 10. Брусчатка дорог стала неотъемлемым элементом образа города.
«Зна чи мые дру гие»: 1. и. кант — его об раз, нескладная фигура, места и легенды, связанные с его жизнью, несколько цитат из его работ, могила у стен собора. 2 Э. Гофман и герои его литературных произведений, такие как кот Мур и т.д. 3. королева луиза. 4. рыцари средневековья — в названиях и эмблемах, реконструкциях битв и турниров.
на основе этих образов возникал эстетически привлекательный, выразительный образ места, важную роль в котором играли представления о европейском прошлом региона, его укорененности в мировой истории, при- частность к европейской цивилизации и европейским ценностям, принципиальная не-провинциальность. Эту информацию субъект получал путём интуитивного, а не логического познания (в соответствии с терминологией Б. кроче), и она носила более персонализированный характер и начинала определять его внутреннее состояние (а. Моль).
долгое время в сфере эстетической коммуникации региона практически отсутствовали позитивно окрашенные объекты послевоенного периода. чужое (эстетически привлекательное) оказалось разрушенным (во время войны и после), нового, столь же выразительного, не появилось. дом советов, воздвигнутый на месте взорванного королевского замка, ничего, кроме раздражения и насмешек, не вызывал. лишь в начале 2000-х годов ситуация стала меняться, в сферу эстетической коммуникации попали новые объекты: комплекс рыбной деревни (стилизация «под кё нигс берг»), пра во слав ный пя ти ку поль ный, трёхнефный храм христа спасителя, новые административные здания и торговые центры. стала меняться и эстетическая оценка дома советов, актуализировались новые образы «зна чи мых дру гих»: а. в. су во ро ва, н. Гу ми-лева, в. высоцкого, и. Бродского и др.
современная эпоха, когда формируется постло го цен три че ская па ра диг ма куль ту ры [12], характеризуется уходом от одностороннего рационализма и повышением интереса к интуитивистским, эмотивистским началам культуры, к образному мышлению и его возможностям и, соответственно, усилением значимо сти эс те ти че ской ком му ни ка ции.
Список литературы Эстетическая коммуникация в пространстве культуры (на примере калининградской региональной субкультуры)
- Баксанский О.E., Кучер E.Н. Моя картина мира. Как человек создаёт повседневную реальность. Москва: Канон + РООИ «Реабилитация», 2014. 575 с.
- Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания/пер. с англ. Е. Руткевич. Москва: Московский философский фонд, 1995. 323 с.
- Восточная Пруссия глазами советских переселенцев: Первые годы Калининградской области в воспоминаниях и документах/ Санкт-Петербург: Бельведер (БВ), 2002. 271 с.
- Гаврилина Л.М. Калининградский текст в семиотическом пространстве культуры//Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия «Гуманитарные науки (история, философия, политология, социология)». 2011. № 6. C. 75-83.
- Грякалов А.А. Эстетическое и политическое в контексте постсовременности: топос HOMO AESTHETICUS//Вопросы философии. Научно-теоретический журнал. 2013. № 1. C. 49-57.