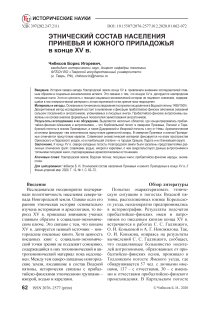Этнический состав населения Приневья и Южного Приладожья в конце XV в.
Автор: Чибисов Борис Игоревич
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 1 т.12, 2020 года.
Бесплатный доступ
Введение. История северо-запада Новгородской земли конца XV в. привлекала внимание исследователей главным образом в социально-экономическом аспекте. Это связано с тем, что концом XV в. датируются новгородские писцовые книги. Хотя их ценность с позиции социально-экономической истории не подлежит сомнению, содержащийся в них ономастический материал с этноисторической точки зрения пока недооценен. Материалы и методы. Основным источником исследования послужила писцовая книга Водской пятины 1499/1500 г. Дескриптивный метод исследования состоит в выявлении и фиксации прибалтийско-финских ойконимов (названий сельских поселений) и антропонимов, упоминаемых в писцовых книгах. Прибалтийско-финские антропонимы выявлены на основе анализа формальных показателей заимствования антропонимов. Результаты исследования и их обсуждение. Выделяется несколько областей, где концентрировалась прибалтийско-финская ойконимия и антропонимия, - это Корбосельский погост в северном Приневье, Лопский и Теребужский погосты в южном Приладожье, а также Дудоровский и Ижорский погосты к югу от Невы. Археологические источники фиксируют там значительное присутствие древностей ижоры. В северном Приневье и южном Приладожье отмечается присутствие карелов. Славянский ономастический материал фиксируется на всем пространстве Ореховского и Ладожского уездов, но в наибольшей степени - в городах Орешке, Ладоге и их ближайшей округе. Заключение. К концу XV в. северо-западные погосты Новгородской земли были заселены представителями различных этнических групп: славянами, водью, ижорой и карелами, о чем свидетельствуют данные антропонимии и топонимии писцовой книги, подтверждаемые археологическими источниками.
Новгородская земля, водская пятина, писцовые книги, прибалтийско-финские народы, ономастика
Короткий адрес: https://sciup.org/147217970
IDR: 147217970 | УДК: 397(282.247.211) | DOI: 10.15507/2076-2577.012.2020.01.062-072
Текст научной статьи Этнический состав населения Приневья и Южного Приладожья в конце XV в.
Исследователи неоднократно подчеркивали полиэтничность населения северо-запада Новгородской земли. Однако если его ранняя этническая история основательно изучена историками и археологами, то период XV в. привлекал внимание ученых главным образом в социально-экономическом ключе. Это связано с тем, что концом XV в. датируется ценный источник – новгородские писцовые книги. Хотя ценность писцовых книг с социально-экономической точки зрения не подлежит сомнению, содержащийся в них топонимический и антропонимический материал пока недооценен. Между тем северо-западные новгородские земли, входившие в состав Водской пятины, исторически связаны с прибалтийско-финскими этническими группами – ижорой, водью и карелами.
Обзор литературы
Попытки охарактеризовать этническую ситуацию в погостах Водской пятины, расположенных южнее Корельско-го уезда, неоднократно предпринимались в историографии. Результаты подсчетов прибалтийско-финских имен и патронимов по писцовым книгам конца XV в. встречаются в работах С. С. Гадзяцкого, О. И. Коньковой и А. Г. Новожилова. Так, О. И. Конькова, опираясь на результаты вычислений С. С. Гадзяцкого, сообщает, что подавляющее большинство носителей антропонимов, образованных от прибалтийско-финских основ, проживало в Толдожском погосте Ямского уезда, где обнаруживается 57 чел. с личными именами, 137 – с отчествами, 30 – с именами и отчествами прибалтийско-финского происхождения. В Каргальском погосте
62 ISSN 2076–2577 (print)
Копорского уезда эти цифры таковы: 39 личных имен, 97 отчеств и 16 прибалтийско-финских имен и отчеств [2, 4 ; 8, 59 ].
Исследование А. Г. Новожилова не ограничилось несколькими погостами. По данным автора, в Толдожском, Кар-гальском, Ижорском и Дудоровском погостах Водской пятины проживало 72 % от общего числа «людей», нареченных финноязычными именами. Однако остается неясным, какие именно антропонимы и по какому критерию А. Г. Новожилов относит к прибалтийско-финским. Кроме того, ученый указывает проценты носителей прибалтийско-финских имен в Вод-ской пятине конца XV в., но при этом не озвучивает общее число «людей», из которого высчитываются проценты. Наконец, А. Г. Новожилов в таблице приводит относительные данные «прибалтийско-финских имен», а в основном тексте упоминает о «языческих» именах (видимо, некалендарных) [14]. Отсутствие целостного взгляда на ономастический материал северо-запада Новгородской земли требует специального обращения к этой теме.
Материалы и методы
Главным источником данных ономастики применительно к Водской пятине конца XV в. является писцовая книга 1499/1500 г.1 В ней отмечены различные типы прибалтийско-финских названий поселений. Одну группу «вторичных» ой-конимов составляют названия географических объектов, распространившиеся на образованные при них поселения (деревня в Лахте). В другой группе ойконимов находятся названия, восходящие к географическим терминам (Сарь < suari ‘остров’). Ряд ойконимов содержат в своей структуре прибалтийско-финский -l-овый формант (Кургала). Прибалтийско-финские антропонимы выявлены на основе анализа показателей заимствования антропонимов. Формальными показателями являются: 1) сочетание звуков, нехарактерных для русской звуковой системы и 2) структур- ный маркер – формант -уй (-ой, -ей, -ий), например: Meloi. Среди неславянских антропонимов особую группу составляют некалендарные имена прибалтийско-финского происхождения, такие как Вих-туй (Vihtoi), Игала (Iha, Ihala), Лембит (Lemmity/Lemmetti), Ускал (Uskali), Тоивод (Тoivottu).
Результаты исследования и их обсуждение
Ореховский уезд охватывал Карельский перешеек, юго-западное и южное При-ладожье, северное и южное Приневье, а также юго-восточное побережье Финского залива. Часть этой территории была заселена ижорой. Самый ранний фрагмент «Жития Александра Невского», сохранившийся в Лаврентьевской летописи XIV в., позволяет локализовать ижору в районе Приневья и на побережье Финского залива. В сообщении под 1240 г. упоминается некий Пелгуй , старейшина Ижорской земли, который руководил морской стражей. Он предупредил князя Александра Ярославича о приходе в Неву шведов и указал ему на шведские боевые рвы. Вскоре после этого произошла Невская битва в устье Ижоры2.
Вероятно, оригинальной формой прибалтийско-финского имени Пелгуй было Pelgoi/Pelkkoi [1, 77]. Пелгуй назван «старейшиной в земле Ижерской»: это означает, что у ижоры в середине XIII в. была своя знать. Во время конфликта Новгорода со шведами ижора и ее знать выступили как часть новгородской военной системы: Пелгуй выполнил ответственное поручение новгородских властей, суть которого состояла в несении сторожевой службы в устье Невы, представлявшем для шведов стратегический интерес [11, 25]. Кроме того, вполне вероятно, что ижора принимала участие в Невской битве на стороне Новгорода [20, 95]. Это свидетельствует о наличии у ижоры своей военной организации, подчиненной Новгороду. Позднее, в 1270 г., отряды ижоры участвовали в вооруженном противостоянии Новгорода с князем Ярославом Ярославичем в Голино3.
Можно говорить о выстраивании доверительных взаимоотношений между новгородскими властями и Александром Ярославичем, с одной стороны, и ижорской знатью в лице Пелгуя – с другой. О своем «видении» на Неве Пелгуй решил сообщить непосредственно Александру, причем «ему единому». Несомненно, одним из обязательных условий такого доверия к нему новгородской власти было принятие православия ижорской знатью. Известно, что сам Пелгуй был крещен и носил календарное имя Филипп . При этом подавляющее большинство ижоры на тот момент оставалось язычниками4.
Как показал Т. В. Гимон, именно в середине XIII в., в условиях нараставшей внешней экспансии, ижора перестает быть периферийным этносом, который платил Новгороду дань и участвовал на его стороне в военных походах, и становится участником «общеновгородских» политических (прежде всего внешнеполитических) процессов [3, 53 ].
Постепенно ижора не только интегрировалась в социально-политическую систему Новгорода, но и оказалась внутри новгородских границ. Так, в 1323 г. у истока Невы на Ладожском озере был построен г. Орешек, в создании которого принимали участие «новгородци съ кня-земь» Юрием Даниловичем5. Строительство крепости на Ореховом острове представлялось важной политической акцией, связанной с закреплением новгородско-шведской границы. С 1323 г., по итогам заключения Ореховского мира, крепость стала центром обширной пограничной округи. Поддержание стратегических интересов Новгорода в регионе требовало постоянного присутствия здесь славянского населения. Это отразилось в более позднем ономастическом материале писцовой книги, который практически полностью представлен в Орешке и его ближайшей округе календарными именами в славянской форме. Писцовая книга упоминает нескольких жителей города, имена которых могут быть отнесены к карельским или ижорским: Власко и Макарко Тяллякины, Ивашко и Мики-форик Соткуевы. Последние владели несколькими деревнями на территории Куйвашского погоста Ореховского уезда. О присутствии карелов и ижоры в Орешке говорят археологические источники [4; 20, 95].
В городской округе Орешка – Горо-денском погосте – доля деревень с прибалтийско-финскими названиями невелика и достигает 4,5 % ( Лахта , Ахкуево , Тяллекино , Валитово ), сильно уступая по численности славянским ойконимам. Носители неславянской антропонимии в Городенском погосте также составляли незначительную долю от общего числа записанных жителей погоста – 2,2 %. Можно считать, что в центре Ореховского уезда преобладали славяне, хотя прослеживается некоторое присутствие финноязычных народов.
В северном Приневье располагались три погоста Ореховского уезда. Их названия имеют финноязычную основу: Куйвашский (kuiva ‘сухой’), Корбосель-ский (korpiselkä ‘лесистая гряда’ < kor-pi ‘тайга, чаща’, selkä ‘хребет, гряда’) и Келтушский (Keltto < kelttu ‘желтый’) [7, 214]. Свидетельством давнего присутствия неславянского населения в этом регионе является топонимия. В Куйваш-ском погосте записано 66 (24 %) прибалтийско-финских ойконимов. Помимо наименований поселений с -l-овым формантом (Пяяла, Путкола, Варчела, Ран-дала и др.) здесь обнаруживаются ой-конимы, связанные с озерами и реками, имеющими неславянское название. Так, в писцовой книге фигурируют деревни на озерах Лембагальском, Корбольском/ Горбольском и Валоярве, реках Войнога-ле, Вярчеле, Мустеле, Кайлегале, Тойва-кале. Деревни, расположенные по берегам рек и озер, как правило, получали в качестве названия гидроним, причем ой-конимы в таком случае могли повторяться – Мустела (2), Валоярва (2), Кайлега- ла (4), Вярчела (4), Гарбола (8)6. Имелись и смешанные названия, состоявшие из прибалтийско-финского и славянского элементов: Бородулино Виллякино, Игнатово Кайлегола, Кайлегола Макарово, Нуларва Олехново.
В Корбосельском погосте насчитывается 52 ойконима с прибалтийско-финскими основами – они составляют 37 % ой-конимии погоста. Здесь также особенно многочисленны наименования деревень, образованные от гидронимов. Гнезда поселений были на реках Аввале (3), Лопа-ле (4), Мендосари (4), Рогме (4), Кавгале (5), Валгасари (6), а также на Токсовом (2) и Гитольском (7) озерах7. Более высокая доля финноязычных ойконимов в Корбо-сельском погосте обусловлена тем, что этот погост, расположенный на побережье Финского залива, был наиболее удален от центра уезда, где преобладало славянское население.
Неславянская ойконимия Келтушского погоста (21 название) составляет 25 % дошедшей до нас ойконимии области, причем многие названия деревень повторяются: Гимокала (2), Токсово (4), Пурноселка (5), Кяхкома (7). Такие повторения названий обусловлены расположением деревень по берегам рек и озер. Если происходило перенесение гидронима на близлежащую группу поселений, то ойконимы могли заноситься в писцовую книгу в различных вариантах. Так, на озере Токсовом располагались деревни, записанные как Токсова у озера у Токсова , Токсово , Токсово ж над озером над Токсовым , Токсово ж над Ток-совым в конце .
Носители прибалтийско-финских имен концентрировались в Корбосельском (26 чел.; 7 %) и Куйвашском (15 чел.; 3 %) погостах. По преимуществу эти именования представлены в форме патронимов, которые сочетались с календарными личными именами в славянской форме, например: Стехно Илмуев, Олферко Вигу-тов, Кирилко Вилякин, Степанко Игалов и др. Носителями таких имен были кре- стьяне. Помещики – Ивашко и Офонас Соткуевы – упоминаются всего один раз. Писцовая книга не содержит указаний на прибалтийско-финские антропонимы в Келтушском погосте. Таким образом, среди погостов северного Приневья явно выделяется Корбосельский погост, где наблюдается корреляция между значительной долей топонимии и антропонимии.
Данные неславянской ономастики не позволяют точно определить этнические группы, которые освоили территории к северу от Невы. Можно лишь в целом утверждать, что здесь явно прослеживается присутствие финноязычных народов. Одной из этнических групп были, по всей видимости, карелы. Так, в Куй-вашском погосте упомянуты два носителя прозвища Корелянин ( Кирилко Ко-релянин , Федко Корелянин ). Куйвашский погост непосредственно граничил с Ко-рельским уездом, который имел свою этническую специфику. По этой причине носители прозвища Корелянин вполне могли быть карелами. Географическое положение Корельского уезда создавало благоприятные условия для миграций карелов на юг, в Ореховский уезд. На территории Карельского перешейка мало возвышенных, пригодных для земледелия участков. Из Корельского уезда, который был густозаселенным регионом, шел отток населения не только на север. Миграционный поток направлялся и на юг, в долину Невы – также заселенные территории, но обладавшие более высоким хозяйственным потенциалом по сравнению с Карельским перешейком8.
Согласно точке зрения А. Н. Насонова, именно севернее Невы проходила граница летописной Корельской земли [12, 110 ]. На этот счет в историографии выдвигаются два возражения. Во-первых, северное Приневье входило в состав Ореховского уезда и не могло относиться к Корельской земле. В этом случае остается непонятным, почему необходимо отождествлять
(FUl ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ понятия «Корельский уезд» и «Корельская земля». Первое является более поздним и отражающим административную структуру Новгородской земли, а второе – более ранним и, видимо, имеющим в своей основе именно этнический компонент. Кроме того, в историографии неоднократно подчеркивалась искусственность границ уездов, которая не всегда учитывала этнический состав сопредельных территорий [13, 66 ]. Как бы то ни было, отождествлять Корельский уезд и Корельскую землю не представляется возможным.
Во-вторых, на территории северного Приневья в Куйвашском погосте встречается упоминание двух Корелян , следовательно, Кореляне были здесь чужаками.
Этот аргумент не учитывает полифункциональности прозвищ, которыми могли именоваться не только чужаки. Можно допустить, что прозвище Корелянин отражало этническую принадлежность его носителя и имело функцию идентификации последнего в условиях неоднородности этнического состава отдельных областей или поселений. Куйвашский погост – это пограничная территория корельских погостов с «ижорскими» погостами южного Приневья. В нем и упоминаются два Корелянина . При этом в соседнем Корбосельском погосте записаны два Ижерянина ( Лучка Ижерянин , Василь Ижерянин ). О проживании в Приневье ижоры свидетельствуют археологические источники. Бассейн Невы входит в географию распространения средневековых могильников ижоры [9, 34–42 ]. В 1993– 2007 гг. в ходе работ Санкт-Петербургской археологической экспедиции был выявлен и обследован ряд позднесредневековых грунтовых могильников ижоры на территории Санкт-Петербурга и его окрестностей [19, 89 ]. К северу от Невы – в Колтушах и на р. Охте – также были найдены памятники, связанные с ижорой [20, 95 ]. Таким образом, на территории северного Приневья прослеживается давнее присутствие ижоры и карелов.
На южном побережье Ладожского озера, по течению Назии, Шельдихи и Лавы (Лавуи), располагался Егорьевский
Лопский погост Ореховского уезда. Западная граница погоста доходила до Орешка, южное предградие которого именовалось Лопской стороной . Кроме того, в состав соседнего Ладожского уезда входила волость Лопца . Географически волость располагалась на р. Лаве и югозападном заливе Ладожского озера. По мнению А. Г. Новожилова, Лопский погост Ореховского уезда и Лопца представляли собой периферию прибалтийско-финской антропонимической традиции и, следовательно, расселения прибалто-финнов9. Однако данные ойконимии говорят об обратном. При 7 прибалтийско-финских антропонимах здесь насчитывается 62 ойконима, большинство которых (43) имеет в своей структуре прибалтийско-финский формант - la : Вихкала , Тяврела , Гахкола , Лавгула Кандила , Лехкола , Лонгала , Гимола Галуксово , Гайкола и др. Остальные названия поселений были образованы от антропонимов ( Ретуево , Алуево , Ингуево Таруй , Каргуево , Марковское Мустуева ) и гидронимов (деревня в Сосари , Сосарь , Сосарь Большой двор , Сосарь Каврола , Карола нижняя Сосара ).
Любопытно название деревни Арбуево : вероятно, его происхождение непосредственно связано с понятием «арбуй», обозначавшим «чудских» языческих жрецов. Как писал архиепископ Новгородский Макарий, «здесь мне сказывали, что деи въ вашихъ местехъ многие христиане… призываютъ деи на те свои скверныя молбища злодеевыхъ отступникъ арбуевъ Чюдцкыхъ, и мертвыхъ деи своихъ они кладутъ въ селехъ по курганомъ и по коломищемъ съ теми жъ арбуи»10. В общей сложности неславянская ойконимия представляла 47 % всей ойконимии Лопского погоста.
К востоку от Лопского погоста, по южному побережью Ладожского озера, находились погосты Ладожского уезда, где также встречается прибалтийско-финская ойконимия. Ее доля сокращается к востоку, по направлению к г. Ладоге. Так, в Теребужском погосте Ладожского уезда отмечается 44 % неславянских названий деревень. В Песотцком погосте таких названий 27 %, в Городенском – 17 %. Отдельные названия фиксируются в Михайловском «на пороге» погосте. Таким образом, на уровне ойконимии в южном Приладожье подтверждается присутствие финноязычных народов.
В самой Ладоге 137 чел., записанных в писцовую книгу, имели календарные имена в славянской форме, что может быть связано с количественным преобладанием славян в городе и его округе. Славянское население стягивалось в Ладогу для функционирования крепости и проведения в ней строительных работ. Археологически подтверждается, что к 90-м гг. XV в. посадская застройка Ладоги расширилась на 20 %. При этом писцовая книга показывает, что количество дворов здесь увеличилось на 28 при уменьшении численности населения Ладоги на 37 чел.11 Помимо расширения посада была удвоена толщина крепостной стены, на 4 м поднята ее высота, сооружены 5 пушечных башен высотой 16–19 м [5, 67 ]. В 1646 г. старожильцы Ладоги сообщали, что эти строительные мероприятия осуществлялись силами работников из Новгорода, Суздаля, Галича, Вологды, Ярославля, Углича, Костромы, Белоозера и Заонежских погостов [5, 99 ]. Вряд ли возможно с точностью оценить достоверность этих рассказов, но в целом они отражают размах строительных работ.
Этническая принадлежность жителей южного Приладожья, в особенности Лопского погоста, является предметом дискуссий. Это связано с тем, что в основе названия погоста лежит этноним «лопь», обозначающий саамов. Между тем топонимия погоста имела явные несаамские особенности, которые заключались в прибалтийско-финском -l- овом форманте. Формантный анализ топонимии Лопского погоста позволил А. И. Попову выдвинуть предположение, что население этой территории к началу XVI в.
уже не было саамским, однако историческая память о лопи сохранилась в названии погоста [15, 108–109 ]. Противоречие между наименованием погоста и вовсе не саамской его топонимией не смутило А. Н. Кирпичникова, который отождествил приладожскую лопь и саамов [6, 138– 139 ]. Е. А. Рябинин назвал регион южного Приладожья «Лопской землей» [17, 62 ]. В. С. Кулешов на основании топонимических данных предположил, что «лопь» была носителем одного из вымерших условно-самостоятельных прибалтийско-финских языков, который автор назвал «лопским». По его мнению, именно носители этого прибалтийско-финского языка освоили территорию южного Приладожья и сформировали обширный топонимический комплекс, отразившийся в тексте писцовой книги [10].
По данным топонимии писцовых книг сложно определить, какая именно этническая группа оставила -l- овый топонимический пласт. Можно лишь вполне однозначно утверждать, что в конце XV – начале XVI в. южное Приладожье было районом расселения нескольких прибалтийско-финских этнических групп, скорее всего карелов и ижоры. Карелы проникали в Приневье с севера. Видимо, они продвигались дальше, в южное Приладожье, поскольку в Лопском погосте упоминаются такие ойконимы, как Гухта Корельская и Карьяла на речке на Сосари . Названия связаны, очевидно, с прибалтийско-финским словом Karjala . Карельское происхождение прослеживается у ойконима Ликкуево . Наличие геминаты (удвоенного согласного) рассматривается как свидетельство карельских истоков топонимии, поскольку геминированные согласные – характерная особенность карельской фонетики12.
Некоторую информацию дают археологические источники, хотя на пространстве между Ладогой и Орешком памятники Средневековья оставались практически не выявленными вплоть до начала XXI в. На территории, относящейся к Лопскому погосту, был найден ряд памятников и от-
(Fu> ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ дельных вещей прибалтийско-финских типов XII–XIII вв. Эти находки, связанные с ижорой, были открыты в деревнях Путилово, Мучихино, Лукинское, Подолье и Городище Ленинградской области. Восточнее, в междуречье Лавы и Волхова, в д. Пупышево, также обнаружены ижорские средневековые предметы [19, 90 ]. Кроме того, Лопский погост расположен недалеко от Невы, бассейн которой является зоной широкого распространения ижорских древностей. Это дало основание О. И. Коньковой высказать справедливый тезис о том, что ижора проживала не только в Приневье, но и в южном Прила-дожье, до р. Лавы [9, 41 ]. Таким образом, в южном Приладожье археологически зафиксировано присутствие ижоры. Можно предположить, что она проживала там в конце XV в. наряду с карелами.
Несмотря на то что в южном Приладожье в конце XV в. прослеживается карельско-ижорское население, на этой территории могли проживать немногочисленные представители саамов. Об этом косвенно говорит название Лопского погоста, а также прозвище Лопин . Прозвище Лопин первый раз упоминается в Лопском погосте Ореховского уезда ( Поташ Лопин ), второй – в Городенском погосте Ладожского уезда ( Гурейко Лопин ). С этой группой этнонимических прозвищ связан патроним Лопков из Ярвосольского погоста. Прозвища вряд ли являются указанием на принадлежность их носителей к административной единице – в данном случае Лопскому погосту. Сложно также непосредственно связать прозвище Лопин с волостью Лопцой, тем более что это мнение никак не подтверждено аргументацией [14, 86 ]. Если бы прозвище Лопин указывало на место рождения или принадлежность к определенной области, то в антропониме присутствовал бы формант - ец ( Лопинец ). Более вероятно, что прозвание Лопин восходит к этническому наименованию
«лопь», обозначавшему саамов13. Таким образом, район фиксации Лопинов – южное Приневье и южное побережье Ладожского озера. Можно согласиться с А. И. Поповым в том, что название Лопского погоста – это скорее всего фиксация исторической памяти о саамском населении, некогда проживавшем в южном Приладожье.
Самым крупным погостом Ореховского уезда и вообще северо-запада Новгородской земли был Ижорский погост. Его площадь составляла более 2 000 км2 и охватывала бассейны притоков Невы – Ижоры, Тосны, Славянки, Волковки, а также южную часть невской дельты. В конце XV в. в Ижорском погосте проживало около 5 500 чел.14 Крупными были и соседние погосты – Ярвосольский и Дудоровский.
В Дудоровском погосте, располагавшемся на побережье Финского залива, насчитывается 56 ойконимов, имеющих отчетливые прибалтийско-финские корни: они составляют 40 % ойконимии погоста. Среди наиболее распространенных названий поселений – ойконимы на -la: Витала, Покола, Сатула, Корпола, Каргила, Пикула, Подосокула, Перекула, Сукола, Иванкола . Многочисленны названия, образованные от антропонимов: Мохкуево, Тоивалово, Пелгуево, Артуево, Пидуево, Сонгуево, Пейпуево, Кахкуево Рехмуево, Ялгуево, Керкуево и др.15
В составе ойконимов выявляются гидронимы – реки Карпола и Покола . В этом же погосте записано 54 чел. с прибалтийско-финскими антропонимами (8,5 %); из них 19 носили личное некалендарное имя финноязычного происхождения ( Игалко , Ускалко , Лембит , Кавит , Куллят , Исамель и др . )16. Среди патронимов наиболее распространены Лембитов , Тойвуев , Кавгуев , Вихтуев , Игандуев , Ускалев .
В Ижорском погосте зафиксировано 114 ойконимов с прибалтийско-финскими корнями – многие из них имеют в своей структуре неславянские антропонимы и/или формант -la: Каргила, Алгила, Тойвакала, Пудрула, Таибала, Раикола, Харила, Судола (4), Коркола, Петчела, Азмола (2), Меккула. От антропонимов образованы наименования Немборово, Левалдино, Талвуево, Гайкуево, Мандоро-во, Гаппуево, Гавгуево, Виллуево, Керзуе-во, Куткуево, Назруево, Матуево, Иган-дово и др.
В совокупности такие названия составляют 31 % от 364 ойконимов погоста. Особенностью ойконимии Ижорского погоста является то, что ряд наименований образован от гидронимов (преимущественно от названий рек), рядом с которыми располагались поселения. Среди таких ойко-нимов – деревни на Тойвокале , Тарвисари , Тениле , Гюлеле , Килоле , Полколе , Палкоселке , Торогари , Ланикале , Мазале , Кавгуле 17.
В переписи жителей Ижорского погоста упомянуты 44 чел. с финноязычными антропонимами (4 %), из которых 24 имели личное некалендарное имя. Некоторые из них неоднократно повторялись: Игола (12), Тоив (3), Лембит (2), Ускал (1). В этом смысле антропонимиконы Дудоровского и Ижорского погостов практически идентичны по составу. Из финнизированных календарных имен в Ижорском погосте известны личные имена Артуй < Артемий , Илой < Илья , Селуй < Сила / Силуан .
В Ярвосольском погосте записано 33 прибалтийско-финских ойконима – 30 % от общего числа ойконимов пого ста. Неск олько ойконимов были образова-
-
17 См.: ПОКНВП. С. 342–430.
-
4. Кильдюшевский В. И. Карельские вещи из раскопок древнего Орешка // Археологическое наследие Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург, 2008. Вып. 2. С. 75–87.
-
5. Кирпичников А. Н. Каменные крепости Новгородской земли. Ленинград: Наука, Ленингр. отд-ние, 1984. 273 с.
-
6. Кирпичников А. Н. Приладожская лопь // Новое в археологии СССР и Финляндии: сб. докл. III совет.-финлянд. симпозиума по вопросам археологии 11–15 мая 1981 г. Ленинград, 1984. С. 137–144.
-
7. Кирсанов Н. О. Предшественники ы в русской топонимии Ингерманландии // Linguistica Uralica XLIII. 2007. № 3. С. 211–217.
-
8. Конькова О. И. Водь. Очерки истории и культуры. Санкт-Петербург: МАЭ РАН, 2009. 252 с.
-
9. Конькова О. И. Ижора. Очерки истории и культуры. Санкт-Петербург: МАЭ РАН, 2009. 248 с.
-
10. Кулешов В. С. «Лопьская» проблема и топонимы южного Приладожья // Староладожский сборник. Санкт-Петербург, 2001. Вып. 4. С. 56–66.
-
11. Кучкин В. А. Александр Невский – государственный деятель и полководец средневековой Руси // Отечественная история. 1996. № 5. С. 18–33.
-
12. Насонов А. Н. «Русская земля» и образование территории Древнерусского государства: Историко-географическое исследование. Монголы и Русь: История татарской политики на Руси. Санкт-Петербург: Наука, 2006. 416 с.
-
13. Неволин К. А. О пятинах и погостах новгородских в XVI веке. Санкт-Петербург: Тип. Императорской Академии наук, 1853. 660 с.
-
14. Новожилов А. Г. Этническая ситуация на северо-западе Новгородской земли в XV– XVI вв. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2: История. 2004. Вып. 1–2. С. 79–92.
-
15. Попов А. И. Следы времен минувших: Из истории географических названий Ленинградской, Псковской и Новгородской областей. Ленинград: Наука, Ленингр. отд-ние, 1981. 206 с.
-
16. Рябинин Е. А. Водская земля Великого Новгорода (результаты археологических исследований, 1971–1991 гг.). Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2001. 259 с.
-
17. Рябинин Е. А. Финно-угорские племена в составе Древней Руси: К истории славяно-финских культурных связей. Историко-археологический очерк. Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 1997. 260 с.
-
18. Седов В. В. Этнический состав населения северо-западных земель Великого Новгорода (IX–XIV вв.) // Советская археология. 1953. № 18. С. 190–229.
-
19. Сорокин П. Е. Археологическое изучение средневековых памятников в Прине-вье. Новые данные по археологии ижоры // Археологическое наследие Санкт-Петербурга: сб. ст. Санкт-Петербург, 2008. Вып. 2. С. 88–127.
-
20. Сорокин П. Е. Раскопки ижорских могильников в бассейне реки Невы // Записки ИИМК РАН. Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2006. Вып. 1. С. 94–111.
ны от гидронимов – деревни на Ярвосоли и Агриселке . Носители прибалтийско-финской антропонимии были немногочисленны – 10 чел. (2,5 %).
Присутствие неславянского населения в южном Приневье и на Ижорском плато подтверждается археологически. Еще в XIII в. бассейн Ижоры был занят ижорой, которая затем начала продвигаться к западу, в сторону Ижорского плато. Исследования В. В. Седова [18, 196 ], Е. А. Рябинина и О. И. Коньковой показали, что неславянские могильники, располагавшиеся в бассейнах Ижоры и Невы, на Ижорском плато, можно считать ижорскими. Средневековые ижорские захоронения присутствуют в Ижорском, Дудоровском и Кипенском погостах [9, 41 ; 16, 12 ; 17, 74 ].
Заключение
Таким образом, выделяется несколько областей, где концентрировалась прибалтийско-финская ойконимия и антропонимия, – это Корбосельский погост в северном Приневье, Лопский и Теребуж-ский погосты в южном Приладожье, а также Дудоровский и Ижорский погосты к югу от Невы. Именно там археологические источники фиксируют значительное присутствие древностей ижоры. В северном Приневье и южном Приладожье отмечается присутствие карелов. Славянский ономастический материал выявляется на всем пространстве Ореховского и Ладожского уездов, но в наибольшей степени – в городах Орешке, Ладоге и их ближайшей округе.
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ской политии (XII – первая половина XIV в.) // Единая российская нация: Проблемы формирования ее идентичности: сб. ст. Арзамас; Саров, 2017. С. 51–56.
Поступила 12.11.2019, опубликована 18.05.2020
THE ETHNIC COMPOSITION OF THE POPULATION OF PRINEVYE AREA AND THE SOUTHERN LADOGA AREA at the end of the XV century
Boris I. Chibisov,
Candidate Sc. {History}, Associate Professor, Department of Theology, Tver State University
Introduction. History of the North-West area of Novgorod land at the end of the XV century attracted the attention of researchers mainly in the socio-economic aspect. This is due to the fact that Novgorod scribal books are dated by the end of the XV century. From the standpoint of socio-economic history their value is not in doubt, but from an ethno-historical point their onomastic content is underestimated.
Materials and methods. The main source of research was the scribe book of the Vodskaya Pyatina 1499/1500. The descriptive method of research is to identify and record the Baltic-Finnish oikonyms (names of rural settlements) and anthroponyms mentioned in the scribe books. Baltic-Finnish anthroponyms are identified on the basis of an analysis of formal indicators of borrowing the anthroponyms.
Results and Discussion. There are several areas where the Baltic-Finnish oikonymy and anthroponymy were concentrated, namely Korboselsky graveyard in the northern Prinevye, Lopsky and Terebuzhsky graveyards in the southern Ladoga, as well as Dudorovsky and Izhora graveyards south of the Neva. Archaeological sources record a significant presence of the Izhora antiquities. The presence of Karelians is noted in the northern Prievye and southern Ladoga. Slavic onomastic materials are recorded throughout Orekhovsky and Ladoga counties, but to mostly in the cities of Oreshka, Ladoga and their nearest areas.
Conclusion. By the end of the XV century the north-western graveyards of Novgorod land were inhabited by representatives of various ethnic groups: Slavs, Vodians, Izhora and Karelians, as evidenced by the data of anthroponyms and toponyms of the scribe’s books and confirmed by archaeological sources.
Submitted 12.11.2019, published 18.05.2020
Список литературы Этнический состав населения Приневья и Южного Приладожья в конце XV в.
- Бегунов Ю. К. Древнерусские источники об ижорце Пелгусии-Филиппе, участнике Невской битвы 1240 г. // Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и исследования: 1982 г. Москва, 1984. С. 76-85.
- Гадзяцкий С. С. Ижорская земля в начале XVII в. // Исторические записки. Москва, 1947. Т. 21. С. 3-42.
- Гимон Т. В. К вопросу о статусе финно-язычных «племен» в составе новгородской политии (XII - первая половина XIV в.) // Единая российская нация: Проблемы формирования ее идентичности: сб. ст. Арзамас; Саров, 2017. С. 51-56.
- Кильдюшевский В. И. Карельские вещи из раскопок древнего Орешка // Археологическое наследие Санкт-Петербурга. Санкт-Петербург, 2008. Вып. 2. С. 75-87.
- Кирпичников А. Н. Каменные крепости Новгородской земли. Ленинград: Наука, Ленингр. отд-ние, 1984. 273 с.
- Кирпичников А. Н. Приладожская лопь // Новое в археологии СССР и Финляндии: сб. докл. III совет.-финлянд. симпозиума по вопросам археологии 11-15 мая 1981 г. Ленинград, 1984. С. 137-144.
- Кирсанов Н. О. Предшественники ы в русской топонимии Ингерманландии // Lingüistica Uralica XLIII. 2007. № 3. С. 211-217.
- Конькова О. И. Водь. Очерки истории и культуры. Санкт-Петербург: МАЭ РАН, 2009. 252 с.
- Конькова О. И. Ижора. Очерки истории и культуры. Санкт-Петербург: МАЭ РАН, 2009. 248 с.
- Кулешов В. С. «Лопьская» проблема и топонимы южного Приладожья // Староладожский сборник. Санкт-Петербург, 2001. Вып. 4. С. 56-66.
- Кучкин В. А. Александр Невский - государственный деятель и полководец средневековой Руси // Отечественная история. 1996. № 5. С. 18-33.
- Насонов А. Н. «Русская земля» и образование территории Древнерусского государства: Историко-географическое исследование. Монголы и Русь: История татарской политики на Руси. Санкт-Петербург: Наука, 2006. 416 с.
- Неволин К. А. О пятинах и погостах новгородских в XVI веке. Санкт-Петербург: Тип. Императорской Академии наук, 1853. 660 с.
- Новожилов А. Г. Этническая ситуация на северо-западе Новгородской земли в XV-XVI вв. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2: История. 2004. Вып. 1-2. С. 79-92.
- Попов А. И. Следы времен минувших: Из истории географических названий Ленинградской, Псковской и Новгородской областей. Ленинград: Наука, Ленингр. отд-ние, 1981. 206 с.
- Рябинин Е. А. Водская земля Великого Новгорода (результаты археологических исследований, 1971-1991 гг.). Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2001. 259 с.
- Рябинин Е. А. Финно-угорские племена в составе Древней Руси: К истории славяно-финских культурных связей. Историко-археологический очерк. Санкт-Петербург: Изд-во СПбГУ, 1997. 260 с.
- Седов В. В. Этнический состав населения северо-западных земель Великого Новгорода (К^^ вв.) // Советская археология. 1953. № 18. С. 190-229.
- Сорокин П. Е. Археологическое изучение средневековых памятников в Приневье. Новые данные по археологии ижоры // Археологическое наследие Санкт-Петербурга: сб. ст. Санкт-Петербург, 2008. Вып. 2. С. 88-127.
- Сорокин П. Е. Раскопки ижорских могильников в бассейне реки Невы // Записки ИИМК РАН. Санкт-Петербург: Дмитрий Буланин, 2006. Вып. 1. С. 94-111.