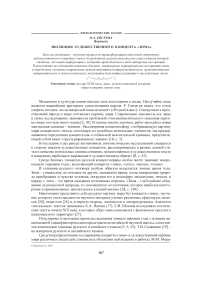Эволюция художественного концепта «зима»
Автор: Евсеева О.А.
Журнал: Известия Волгоградского государственного педагогического университета @izvestia-vspu
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 4 (197), 2025 года.
Бесплатный доступ
Цель исследования – изучение процессов трансформации смысловой структуры художественного концепта «зима» посредством анализа текста как смыслопорождающей системы, где новая информация о концепте представлена в виде авторских ассоциаций. В результате исследования выявлены базовые, национально маркированные ассоциации зимы и определены основные направления зимней тематики (натуралистическое, гражданственно- патриотическое и психологическое), получившие дальнейшее развитие в последующие эпохи.
Поэзия XVIII века, зима, художественный концепт, образ-концепт, время года
Короткий адрес: https://sciup.org/148330921
IDR: 148330921
Текст научной статьи Эволюция художественного концепта «зима»
Мышление и культура нации находят свое воплощение в языке. Неслучайно язык является важнейшим критерием существования народа. Р. Гамзатов писал, что готов умереть сегодня, «если завтра мой язык исчезнет» («Родной язык»). Совокупность представлений народа о мире составляет картину мира. Современные лингвисты все чаще в своих исследованиях занимаются проблемой этнолингвистического описания картины мира того или иного языка [2; 10]. В основе многих научных работ находится новая ментальная единица – концепт. Рассматривая концептосферу, отображающую картину мира конкретного этноса, состоящую из подобных ментальных элементов, мы придерживаемся определения концепта как «глобальной мыслительной единицы, представляющей собой квант структурированного знания» [18, с. 5].
В последние годы ракурс когнитивных лингвистических исследований смещается в сторону анализа художественных концептов, рассматриваемых в рамках данной статьи в качестве ментальных единиц сознания, «реализованных в художественном тексте и нашедших вербальное выражение в художественном образе» [8, с. 55].
Среди базовых элементов русской концептосферы особое место занимает макроконцепт «времена года», включающий концепты «зима», «лето», «весна», «осень».
В сознании русского человека особым образом выделяется зимнее время года. Зима – уникальное, не похожее на другие, священное время, когда замирающая природа преображает и чувства человека, погружая его в атмосферу меланхолии, печали, и наряду с этим – это время ожидания позитивных перемен. «Зима – глубочайшее обнажение души русской природы, то «посмертное» ее состояние, которое наиболее всесторонне и проникновенно запечатлелось в нашей жизни» [28, с. 169].
Невозможно представить себе русскую картину мира без концепта «зима», изучение которого стало предметом научного интереса ученых различных сфер науки: медиков [20], педагогов [26] и, в первую очередь, лингвистов и литературоведов. Анализом «метельных» текстов занималась К.А. Нагина [17]. Е.В. Шохина исследовала поэтические тексты начала XIX века, в которых образ зимы связывался с феноменом «русского национального характера» [27].
Популярные в настоящее время исследования зимнего времени года с позиции национальной специфики проводили представители китайской научной школы, сопоставляя лексические единицы русского и китайского языков [3; 5; 25], Т.В. Салашник [19] – на материале русского и английского языков.
Средства репрезентации и содержание концепта «зима» в художественной картине мира различных писателей становились объектами наблюдения в работах М.М. Мора
раш (В.В. Набоков) [14], А.С. Усачевой (И. Бродский) [22], А.Н. Федоринчик (В. Брюсов) [23]. В качестве базового концепта в русской языковой картине мира концепт «зима» также был рассмотрен в работах О.А. Евсеевой [7]. Вместе с тем художественный концепт «зима», получивший языковую объективацию еще в русском фольклоре, оказался практически не включенным в исследования языковой национальной картины мира в поэзии XVIII века; в частности, не исследованы ассоциативные связи, позволяющие представить содержание концепта, репрезентированное в поэтическом тексте XVIII века.
При анализе художественного концепта «зима» на материале поэтических произведений XVIII века можно выявить ассоциативные закономерности, которые отражают характерные черты объективируемого в тексте сознания, и репрезентировать содержание концепта в том виде, в котором он представлен и зафиксирован в языке.
Традиция образного восприятия зимы в русской словесности восходит к фольклору. Образ зимы здесь мы встречаем в песнях («Как на тоненький ледок / Выпал беленький снежок. / Эх! Зимушка, зима , / Зима снежная была»), сказках («Зимовье зверей», «Два Мороза», «Морозко»), загадках («Не болела, / А белый саван надела»), пословицах и поговорках (« Зима – матка, выспишься сладко», «Зима лето пугает, да все равно тает», «Зима – не лето, в меха одета» ). Редко в былинах можно встретить зимний пейзаж, чаще зимняя тема просматривается сквозь строки: « <Илья Муромец> да и кунью шубейку да на одно плеце, / Да пухов-де колпак да на одно ухо. / Да выходит стар о й да вон на улицу. / <…> Да и брал он нынь трубочку подзорную, / Да и зрел он смотрел на вси стороны. / <…> Да смотрел он под сторону под зимную / ай под зимну сторону полуночную <…> » («Илья Муромец и Сокольник»).
Первопроходцем «зимней» тематики в поэзии стал В.К. Тредиаковский. Первое упоминание о зиме в литературе встречаем в его небольшом стихотворении: «Весна катит, / Зиму валит, / И уж листик с древом шумит» [21, с. 94]). Поэт, продолжая традиции устного народного творчества, отмечает оппозицию весна – зима : «весна тьму зимнюю облистала» [Там же, с. 356] (ср. «Как в марте зима не злится, а весне покорится»).
Дальнейшее развитие образ-концепт «зима» получает в творчестве М.В. Ломоносова (1711–1765), стоявшего у основания эпического жанра русской поэзии и воплотившего в своих произведениях всестороннюю гениальность русского народа.
Заслуга Ломоносова заключается в создании «панорамной» разновидности национального (зимнего) пейзажа, широко охватывающего просторы русской природы [28, с. 207].
В творчестве М. Ломоносова впервые обнаруживается получившая в дальнейшем развитие семантическая корреляция образа России и зимы. В ломоносовских строках Россия рисуется северной страной, которой покровительствует Бог: «… всегдашними снегами / Покрыта северна страна , / Где мерзлыми борей крылами / Твои взвевает знамена ; / Но Бог меж льдистыми горами / Велик своими чудесами ...» [12, с. 125].
Россия – страна, где «… свирепый Марс в минувши годы <…> по снегам ступал» . И только императрице Елизавете Петровне «… зима покорна <…> и снег …» [Там же, с. 227]).
В поэзии Ломоносова морозные русские зимы, «демонстрирующие величественную ипостась возмущенной стихии, соотносятся с национальным характером» [17, с. 4]. Одной из «стран, родящих снеги», метонимически называет Ломоносов Россию.
Новый образ зимы наблюдается в творчестве М.М. Хераскова (1733–1807), ставшего главной фигурой русского классицизма. Ему чужда поэтика М.В. Ломоносова [9, с. 183]. Новыми метафорами, в которых автор «видел один из признаков художественной выразительности речи» [Там же, с. 197], наполняются его стихи; поэзия его аллегорична.
Открывая новые горизонты образа-концепта «зима» в русской национальной картине мира, М.М. Херасков создает уникальный для своего времени эпический образ зимы. В поэме «Россияда» порфироносная зима представлена в образе жестокой старой Царицы «< согбенная Зима >, виссоном служат ей замерзлые пары» [24, с. 177– 215]. Зима М.М. Хераскова ассоциируется с беспощадным мифологическим персонажем: « … Зима , снедающая годы . / < … > жестокая других времян сестра , / Покрыта сединой, проворна и бодра».
Разнохарактерный риторико-семантический арсенал тропов воссоздает новый образ зимы: «соперница весны, и осени, и лета», «царствует зима», «на льдину опершись, как мрамор, побелела», «жестокая сестра других времян», «на хладных крылиях морозы к нам несет», «… стужи ей ковры из белых волн прядут», «седые у Зимы растаяли власы». В основе зимнего пейзажа, рисующего зиму, находится дихотомия: смерть – красота жизни.
В зимнем пейзаже, рисующем царство Зимы, прослеживается сакральная оппозиция красота – смерть : «алмазная гора – престол Зимы», «алмазная цепь», «дом, иссеченный изо льда», «ковры из белых волн», «мраморная белизна», «натура вся мертва», «одр цветущих полей», «прозрачный вечный свод», «снежная порфира», «сребристый блеск», «хладные крылья», «молния мертва», «цепенеет гром».
Зима жестока: ее «со трепетом леса и реки ждут / <…> На всю натуру сон и страх она наводит». Являясь центральным персонажем поэмы «Россияда», зима выступает за врагов россиян – татарских ордынцев ( « < … > Борей воздвиг противу Россов брань, / Крилами мерзлыми от них закрыв Казань» ). Но на стороне русских – Бог: священное знамя с изображением Спасителя укрощает свирепую силу зимы.
Дальнейшее свое развитие зимняя тема обретает в творчестве Г.Р. Державина. Его новаторство состоит в том, что «впервые заняла заметное место» [28, с. 209] зимняя тема, а природа приобретает «поэтический интерес, отдельный от социального и естественнонаучного» [Там же, с. 208].
Зима Державина отличается от образного воплощения зимы в произведениях М.М. Хераскова, о чем писатель заявляет прямо: «Останови свою, Херасков, кисть ты льдяну: / Уж от твоей зимы / Все содрогаем мы ». Новыми красками рисуется зима в творениях поэта.
В шуточном стихотворении «Желание Зимы» Державин говорит о приходе зимы простым, «низким» слогом. Воедино сливается здесь просторечная народная и устнопоэтическая речь: поэзию наполняет народно-разговорная стихия, дышащая удальством, горячностью, бесшабашностью народного праздника: « В убранстве козырбац-ком, / Со ямщиком-нахалом, / На иноходце хватском, / Под белым покрывалом – / Борее-ва кума, / Катит в санях Зима …» («Желание зимы») [6, с. 117]. Уникальный вклад Державина состоит в том, что он «поэтически воссоздал картину русской зимы» [16, с. 54].
В своих произведениях Г.Р. Державин использует прием персонификации зимы: в «Желании зимы» Зима – Бореева кума, молодая белоликая барыня, а в стихотворении «На рождение порфирородного отрока» зима является в мужском обличии «лихого старика» Борея: «С белыми Борей власами / И с седою бородой, / Потрясая небесами, / Облака сжимал рукой; / Сыпал инеи пушисты / И метели воздымал, / Налагая цепи льдисты, / Быстры воды оковал …» [6, с. 87]. В античной мифологии для русской зимы красок не было. Зима впервые предстает в мужском образе, а используемые автором метафоры, сниженная атрибуция вносят в образ национальный колорит. Зима – это и садовник «в покрывале скромном, белом», готовящий плод («Зима»).
Ставший впоследствии традиционным для русской поэзии образ зимы, колдуньи и волшебницы (произведения П. Вяземского, А. Пушкина, Ф. Тютчева и др.), впервые появляется у Державина в стихотворении «Осень во время осады Очакова»: « Идет седая чародейка, / Косматым машет рукавом ».
Таким образом, в поэтическом наследии Г.Р. Державина зима предстает национально значимым временем года, играющим определяющую роль в формировании характера русского человека, в том числе и самого писателя. Державинские поэтические традиции найдут свое продолжение в русской поэзии XIX–ХХ веков.
По-новому зазвучит тема зимы в творчестве Н.М. Муравьева ( 1721–1799). «Красота, разлиянная в творениях природы и деяниях человеческих», – сформулирует поэт свое литературное кредо.
В творчестве писателя пейзаж проявляется, прежде всего, как картина, «основанная на физическом и эмоциональном состоянии человека» [1, с. 111]. У Н.М. Муравьева, прославляющего ценность каждого сезона, время года коррелируется с периодами жизни человека: « Все года времена имеют наслажденья: // Во всяком возрасте есть счастие свое » («Время») [15, с. 137].
В творчестве Н.М. Муравьева проявляется новый тип организации художественного пространства: в отличие от масштабного и космического пространства Ломоносова, в стихах Муравьева доминирует ближнее, земное пространство, требующее ярких и подробных пейзажных зарисовок. Авторское пространство Муравьева характеризуется субъективным восприятием и становится важным для поэта лишь в связи с конкретной личностью.
Автор открывает новые горизонты восприятия зимы. Пейзаж Муравьева редко бывает статичным. Поэт любит наблюдать за картиной смены времени суток, времен года. Первым образцом русской лирики, в котором раскрывается не локальный промежуток времени, а движение, имеющее точкой отсчета момент умирания осени и явления нарождающейся зимы, становится стихотворение «Желание зимы»: « Приди скорей, зима, и ветров заговоры, / Владычица, низринь ...» [Там же, с. 158]. Это время предчувствия ее, ожидания, мечты о ней.
Рождается новый образ зимы – крылатой владычицы, повелительницы природы. Она бывает сурова: «… рождена решить их ˂ветров˃ буйны споры, / Ослушных в бездну кинь …». В основе образных дефиниций зимы находятся субъективные впечатления: снег – нежный пух, стелющийся воздушною тропою; зима, сеющая иней на заре, сравнивается с человеком, засевающим поле зерном.
Природа и человек в творениях Муравьева взаимодействуют, существуя не параллельно, а едино, в гармонии друг с другом; отсюда и «осязанье» крыльев зимы «по жилам до души». Что несет это, казалось бы, мертвое время года человеку? У Муравьева (и это новое видение зимы) зима дает человеку любовь, праздность, игры, зимнюю охоту («Не се ли рога звук?, <…> любови не совсем отходят в заточенье / И дышат и зимой» ). Отсюда и грезы о приходе зимы, ее призывание: «Приди скорей; Сверши, зима, сверши!». Муравьев провозглашает себя певцом зимы («Зима, чтоб твой певец спокоен покусился / Кичливый вздеть котурн» ).
В творчестве Н. Муравьева впервые внимание сфокусировано «на отдельной личности, ее чувствованиях и порывах» [Там же, с. 210], что станет предтечей романтической поэзии В.А. Жуковского.
Вторая половина ХVIII века ознаменована резким подъемом интереса к национальной самобытности русского народа. Идея народности становится основополагающей в русском историко-культурном пространстве. Принципиальное значение в ее осмысле- нии имеет творчество Н.А. Львова, которое «было тесно связано с фольклористической деятельностью» [11, с. 5].
Написанное в 1802 году стихотворение «Новый XIX век в России» становится рубежным произведением, в котором зимняя тема, заданная поэзией XVIII века, плавно перетекает в век XIX. Тема созвучности зимнего времени года духу русского народа, определявшая вектор развития зимней темы в поэзии М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина, Н.М. Муравьева и др. писателей XVIII века, получает здесь дальнейшее развитие. Она представлена целым каскадом образных характеристик отважного воина-богатыря, народного исполина: « Сплеснули витязи руками … / Трещат стези под их стопами, / Объемлет холод их крылами, / Борей взвевает снег столпами; / Но русская кипя-ща кровь / Огнем их жилы напояет … <…> / Природы все чины страдают <…> / Одни сердца не замерзают / Российских огненных сынов » [13, с. 44–46].
В поэме «Русский 1791 год», продолжая народные традиции, Н.А. Львов представляет Зиму в образе щедрой барыни, раздающей направо и налево дары: «румяны», бур-мицкий жемчуг, алмазы и топазы. И стар, и млад рады ей, рады тому празднику (маскараду), на который все получают приглашение. Но и капризна, порой жестока, бывает Зима: кто не примет ее приглашения, «будет жизни тот не рад: или пальцев он лишится, или носа, или пят».
Картину начала зимы поэт сопровождает исполненным народного колорита описанием людей, бытовых реалий и зрелищ: румяная молодка, красная девица, терема, светлицы, горницы, окошко, уборы, сани, рукавицы, забавы, утехи, залетные бегуны.
Поэзия Н.А. Львова генерирует позитивную аксиологию русской зимы.
Зима воспринимается поэтом не просто как череда дней, их календарная последовательность, а как сложное, синтетическое единство образов, характеров, настроений, ассоциаций.
Персонифицируя образ зимы, автор являет ее читателю «барыней большой», боярыней, богиней; «белокосой царицей», объявляющей маскарад, волшебницей, преображающей все вокруг, воином ( «все мундир ее бросали» ), нищей ( «в нищете ее узнал» ), ссыльной ( «зиму в ссылку отослать» ), безумной ( «Тающа зима несчастна / Потеряла разум весь» ).
Олицетворены здесь также зимние стихии и месяцы: ветер, мороз, декабрь: « <…> Весь в серебряном уборе / И в каменьях дорогих, / Развевая бородою / И сверкая сединою, / Во сафьянных сапожках ... / Резвый вестник второпях / Едет из светлиц хрустальных » [Там же, с. 167].
Зима для поэта – активное время, время веселья и любви, волшебства (святочные игры с переодеванием в зверей ( маскарад ), колядки, гадания, величальные песни, старинные предания): « Как с утехами такими / Всем веселыми не быть!... / А таким денькам приятным, / Маскерадам благодатным / Как порядка не вскружить? » [Там же, с. 169].
Художник слова раскрашивает зимний пейзаж новыми красками: яркие сафьянные сапожки, рыжий цвет лисьей шубки, < вестник зимы раздает > румяны , драгоценные каменья , фонари топазны , рукавицы золотые , лист красно-желтый , огонь разноцветный . Белый цвет в державинских строках чаще выражен имплицитно: жемчуг бур-мицкий , мосты зеркальны , убор серебряный и бриллиантовый , фарфор подостланный, кристальные светлицы, снег словно пух блистающий , у вестника зимы – сверкающая седина .
В поэме «Русский 1791 год» Н.А. Львовым заявляется созвучная нашему времени проблема подражательства Западу («европейничанье»).
Увы, «златой век», когда «в России, на копыльях / Стоя, век златой езжал / <…> В зимни резкие сияньи / С ног лихой мороз сшибал / И природу удивлял …» [Там же], минул. Написанные более 200 лет назад строки Н.А. Львова актуальны сейчас как никог- да. Подражательство молодых дворян Западу как выражение слабости и немощности народного духа находим в строках: «В истощенном теле бледном русский стал с чужим умом. Как бродяга в платье бедном с обезьяниным лицом».
Образная система произведения раскрывается на уровне подтекста в следующих семантических оппозициях: родной – чужой; Россия – Париж; зима в стихотворении стоит на защите народных интересов: «Он < русский с чужим умом > наказан был зимой / За проступок, что портной / Бедному сему зефиру / Штофный домино скроил / По зе-фирову мундиру, / Что в Париже он носил» [Там же].
Современному европезированному дворянству зима становится в тягость: « Он <молодой дворянин> в чужих краях <…> там роскошью прельстился …». Поэт же напоминает о патриотизме, о долге перед Отечеством: « … не таять научаться / Должно было там стараться, / А с морозами сражаться / И сраженьями мужаться / В крепости природных сил » [Там же, с. 174].
К сожалению, в конце XVIII века русская народная идея уступает место европейским ценностям, становясь немодной: « Прятаться зиме пришло: <…> А потом с стыда скрывалась / От лучей и от людей ».
Апофеозом поэмы стали строки: « Все над ней <зимой> смеяться стали, / Все мундир ее бросали …», в которых русские северные сыны, отказываясь от «мундира» зимы, отказываются, прежде всего, от национальных духовных ценностей. Место Зимы теперь далеко от столицы, в глубинке, где «… еще и ныне видно / Счастие сие завидно / В дальних русских деревнях » [Там же, с. 176]. Важная имманентная оппозиция строк Н.А. Львова: глубинка (деревня, село, провинция) – город впоследствии будет ведущей в произведениях поэтов XX века (Б. Пастернак «Зима приближается», стихи С. Есенина, Н. Клюева и др.).
Зима для Н.А. Львова, поэта-гражданина, – символ Отечества, физического и духовного здоровья народа, яркой самобытности его культуры. Изгнание зимы – «метафора ситуации в России в конце золотого века Русского Просвещения, когда умами европеизированной интеллигенции завладела идея перекроить все русское на европейский лад» [7, с. 59].
Таким образом, человек, познавая себя через природу, наделял ее человеческими свойствами.
Поэзия XVIII века наследует фольклорные традиции в описании зимы. Базовые, национально маркированные ассоциации зимы получили свое начало в творчестве поэтов XVIII в.:
-
1) в тактильном ощущении: холодная , суровая, морозная, студеная , остужающая и др.;
-
2) в визуальной перцепции, связанной с семантикой не только белого цвета и прозрачности, но и ярким цветовым воплощением, часто выраженным имплицитно: снежная порфира, серебряный убор, жемчуг, зеркальны мосты, алмазы, бриллианты, разноцветный огонь, топазны фонари и др.;
-
3) в преемственности традиций фольклорных образов зимы (молодка, боярыня, богиня, барыня и др.) и приемов ее эстетизации.
Появившиеся в XVIII веке и ставшие традиционными для русской народной культуры и русской поэзии последующих веков являются:
-
1) использование терминологии родственных связей: мать, сестра, кума;
-
2) персонификация зимы в различных образах: царицы, боярыни, богини, барыни, кумы, Борея, садовника, чародейки, владычицы, наперсницы любви, воина в мундире и др.
Поэзия XVIII века определила три основных вектора развития зимней тематики: натуралистическое, патриотическое и психологическое, нашедшие отражение в творчестве поэтов последующих времен.