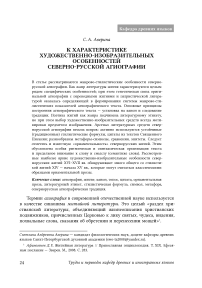К характеристике художественно-изобразительных особенностей северно-русской агиографии
Автор: С.А. Аверина
Журнал: Труды и переводы @proceedings-and-translations
Рубрика: Кафедра древних языков
Статья в выпуске: 1, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются жанрово-стилистические особенности севернорусской агиографии. Как жанр литературы жития характеризуются целым рядом специфических особенностей; при этом генетическая связь оригинальной агиографии с переводными житиями и патристической литературой оказалась определяющей в формировании системы жанрово-стилистических показателей агиографического текста. Основные принципы построения агиографического текста — установка на канон и следование традиции. Поэтика житий как жанра подчинена литературному этикету, но при этом выбор художественно-изобразительных средств всегда мотивирован предметом изображения. Арсенал литературных средств севернорусской агиографии весьма широк: активно используются устойчивые (традиционные) стилистические формулы, цитаты из текстов Священного Писания; разнообразны метафоры-символы, сравнения, эпитеты. Следует отметить и известную «орнаментальность» севернорусских житий. Этим обусловлена особая ритмическая и синтаксическая организация текста и предельное внимание к слову и смыслу (семантике слова). Рассмотренные наиболее яркие художественно-изобразительные особенности севернорусских житий XVI–XVII вв. обнаруживают много общего со стилистикой житий XIV — начала XV вв., которые могут считаться классическими образцами орнаментальной прозы.
Агиография, житие, канон, топос, цитата, орнаментальная проза, литературный этикет, стилистическая формула, символ, метафора, севернорусская агиографическая традиция
Короткий адрес: https://sciup.org/140290800
IDR: 140290800
Текст научной статьи К характеристике художественно-изобразительных особенностей северно-русской агиографии
в дальнейшем изложении объектом рассмотрения будут только жития святых подвижников — собственно жития святых.
Жития святых — «один из самых формализованных литературных жанров, основной характеристикой которого является следование канону, проявляющееся на всех уровнях произведения — структурном, стилистическом, идейном и символико-богословском»2.
как жанр христианской письменности житие обладает ярко выраженной спецификой: «цель агиографа не воссоздание исторически достоверной биографии, а выявление сути и вневременного содержания подвига святого, земная жизнь которого была путем к Богу»3.
именно поэтому агиограф часто сознательно «лишает своего героя индивидуальных “земных” черт и оставляет в его образе лишь “типическое” и “небесное”»4. с этим связано и «традиционное для житий святых наличие значительного числа устойчивых литературных формул, а также общих для многих текстов мотивов, сюжетов и других структурных элементов текста»5.
«Установка на канон и ориентация на образцы»6 — вот, пожалуй, основные принципы построения агиографического текста.7
являясь на протяжении веков одним из основных литературных жанров, агиография составляет значительную часть рукописного наследия, демонстрируя прекрасный образец книжно-литературного языка.
как жанр литературы житие характеризуется целым рядом специфических особенностей, при этом генетическая связь оригинальной агиографии с переводными житиями и патристической литературой оказалась определяющей в формировании системы жанрово-стилистических показателей агиографического текста.
Поэтика житий как литературного жанра подчинена определенному литературному этикету, при этом выбор художественно-изобразительных средств всегда мотивирован предметом изображения.
агиография, цель которой — создание (установление) «определенной эмоционально-нравственной атмосферы, особого “православного мирочувствования”»8, описывая иноческую жизнь, дает нам «образ воплощения идеальных требований в земную действительность»9.
специфика агиографического жанра обусловлена богословскими представлениями, лежащими в основе христианской идеологии, и это естественно нашло свое отражение в образной структуре жития, демонстрируя связь языковых средств с идейно-образным содержанием произведения.
весьма строгое следование византийскому агиографическому канону, что проявилось в использовании определенного набора языковых средств, особенностях словоупотребления, определенных синтаксических структурах, своеобразных стилистических приемах и т. д., позволяет говорить о стереотипе житийного жанра.
Подходя к агиографии как историко-культурному источнику, такой стереотип оценивают негативно, имея в виду «помехи в выяснении конкретных реалий»10. Между тем, именно агиографический канон (не оригинальное, не отступление от традиции) был существенным, значимым в восприятии житий.
однако имевшие место в дальнейшем трансформация агиографического жанра и связанная с этим эволюция агиографического стиля, результаты которой наглядно представлены в житиях последующего времени, — XV и особенно XVI–XVII вв. — несомненное свидетельство того, что унаследованные от византии и античности литературные виды и жанры получили на русской почве свою творческую разработку.11
особый интерес в связи со сказанным представляет материал севернорусских житий XVI–XVII вв.
выбор для обзора группы севернорусских житий12 мотивирован прежде всего их неизученностью — некоторые локальные группы текстов исследованы текстологически, литературоведчески, и лишь единичные тексты описывались (причем фрагментарно) со стороны языковых особенностей. ограничение хронологическими рамками XVI–XVII вв. обусловлено принципиальной важностью указанного периода в развитии русского литературного языка (прежде всего имеем в виду сложную динамику взаимоотношений между различными типами — иначе жанрово-стилистическими разновидностями — литературного языка, причем рубежным, как известно, является XVI в.).
Поэтика житий как литературного жанра подчинена литературному этикету, но при этом выбор художественно-изобразительных средств всегда мотивирован предметом изображения.13
«Литературный этикет вызывал особую традиционность литературы, появление устойчивых стилистических формул, перенос целых отрывков одного произведения в другое, устойчивость образов, символов-метафор, сравнений и т. д.»14.
Многие из стилистических клише («литературных штампов») средневековой агиографии объясняются средневековой символикой. действительно, «сложение житийных схем происходило под влиянием представлений о символическом значении всех событий человеческой жизни».15 Житие святого всегда имеет двойной смысл — само по себе и как образец для подражания, как нравственный идеал.16
земное и небесное... фактически всё время соотносятся эти две сферы. Поэтому не случайно в агиографии с наибольшей силой проявляется тенденция к «абстрагированию», что, в свою очередь, связано со стремлением увидеть за вполне конкретными проявлениями символы вечности, высокого, божественного.17
арсенал литературных средств средневековой агиографии весьма широк. разнообразны метафоры-символы, сравнения, эпитеты. они традиционны, что связано с традиционностью богословских представлений, лежащих в их основе.18
агиография, будучи, как уже указывалось, «одним из самых формализованных литературных жанров»19, дает богатейший материал для изучения литературной (житийной) топики.
термин «топос» в данном случае понимается достаточно широко; это может быть «любой повторяющийся элемент текста — от отдельной устойчивой литературной формулы до мотива, сюжета или идеи»20.
являясь характерной особенностью агиографического текста, подобные структуры (формулы, клише, устойчивые стилистические формулы), по выражению д. с. Лихачева, составляют «основной фонд» чисто церковной литературы.21
такие структуры переходят из произведения в произведение. как правило, все они из текстов священного Писания, сочинений отцов Церкви, а также — произведений авторитетных авторов-агиографов. заимствования и компиляции здесь вполне обычны, поскольку установка на канон предполагала стремление избегать индивидуальных особенностей стиля. Это характерная черта литературы церковных жанров.
весьма показательно использование цитатного материала в агиографических текстах.22 Цитата осознается как «чужой» текст в «своем»23, что позволяет в каждом конкретном случае квалифицировать текстовый фрагмент как цитату и атрибутировать его на основании сопоставления с каким-либо типом богослужебного текста (предполагаемого источника).
Это делает возможной актуализацию в тексте разнообразных способов ее введения в текстовую структуру (художественную ткань жития).
Цитата выделяется автором эксплицитно. Это несомненное свидетельство того, что автор пользовался ею осознанно.
возможно точное (либо более или менее точное) указание на источник цитации — церковный текст а или лицо Б, которому принадлежит высказывание:
-
а. 1. гакоже рече писание . красный ногы бл ( г ) овhстоущ^а миръ (ДП, 209 об.);
-
2. в си(и) д ҃ нь псало(м)скы(и) рекоу. пр¿идhте възра(д)уемс# в пам#ти прп(д)бнаго w ( т ) Ца ншго григор^» (ГП, 324-324 об.);
гакоже есть писано : коль красны ноги благовhствuющиxъ миръ , благовhствuющиxъ блга# . (Рим 10: 15).
пр^идите, возрадиемся г ( с ) деви , воскликнемъ бги спсителю нашеми (Пс 94:1).
Б. 1. « иже погuбитъ д҃шu свою мене ради ¿ еVа(г)л^а тои спстъ ю (ГП, 301 об.);
иже бо аще хощетъ диши свою сп ( с ) ти , погибитъ ю : а иже поги-би ́ тъ дu ́ шu свою ̀ мене ̀ ра ́ ди се ́ й сп ҃ сет ́ ъ ю ̉ (Лк 9: 24).
возможна и двойная маркировка цитаты — ссылка на книгу/ группу книг и указание на конкретное лицо, которому принадлежит высказывание:
w сем бо гь въ блговhствован;и рече ; блжени нищ^и gxw ( M ) «ко тh ( x ) есть цр ( с ) тво небесное (ДП, 207 об.);
и w ( т ) верзъ оуста сво# , оучаше ихъ , гл"#: блжени нищ^и дихомъ : «ко тhxъ есть цр ( с ) тв^е нб ( с ) ное (Мф 5: 2-3)
нередко цитаты из текстов священного Писания никак специально не выделяются и включаются в житийный текст как бы исходящими от автора. При этом они, как правило, подвергаются разного рода преобразованиям на лексико-грамматическом и синтаксическом уровнях для согласования с основным текстом:
азъ ( ж ) телЬсне и w ( т ) хождоу w ( т ) васъ . но дхомъ с вами неw ( т ) стоупенъ боудоу (ГП, 319 об.);
аще и тhломъ кромh васъ бuдоу а д ҃ шею всегда с вами есмь (кк, 98);
аще и тЬломъ еси жизнь с^ю скончалъ . но дхомъ не w ( т ) стоупенъ боуди с нами (ГП, 320 об.);
аще бо и плотью w ( т ) стоЮ , но дихомъ съ вами есмь , ради#с# и вид# вашъ чинъ и оутвержден^е ваше# вЬры , «же во хр ( с ) та . (Кол 2: 5).
особый интерес представляют случаи, демонстрирующие различные способы соединения в пределах самого агиографического текста нескольких цитат. Это так называемые монтажи из цитат — «цитатные блоки», «цитатные периоды»24, в которых каждая из следующих друг за другом цитат, как правило, обозначается вводящими словами.
Приведем в качестве иллюстрации фрагмент из ГП:
поминоуа г ( с ) а рекше ( г ) въ стмъ еvа ( г ) лие . и иже кто wставитъ w ( т ) ца или мТрь . и женоу и дЬти братию и сестры и домы . и имбн^а имени моего ради сто краты пр^иметъ . и жизнь вЬчноую наслЬдить .
и пакы ре ( ч ) гь . иже аще не w ( т ) вержетс# сихъ вси ( х ) речены ( х ). не можетъ мои быти оуч'нкъ . и проча# подобна симъ .
«ко ( ж ) во стмъ писании реченна . и ^же аще чгГкъ и ве ( с ) миръ приwбр»щетъ , а дшоу свою w ( т ) щетитъ . и что дастъ изменоу на дши своеи (ГП, 302 об.).
и вс#къ, иже Wставитъ домъ , или братию , или сестры , или Wтца , или матерь , или жени , или чада , или села , имене моегW ради , стори цею пр^иметъ , и животъ вЬчный наслЬдитъ (Мф 19: 29).
Цитатная амплификация (компиляция цитат — прием, состоящий в нанизывании цитат, точнее, в распространении важной для автора (основной) мысли цепью цитат из книг священного Писания, — является, пожалуй, одним из самых ярких выражений художественных достоинств средневековой агиографии.25
«...очевидно, что введение в текст жития цитаты, явно преследующее цель вызвать у читателя определенные ассоциации и параллели (святой восхваляется, превозносится, сравнивается, уподобляется), существенно влияет на семантику текста»26.
имеет смысл остановиться еще на двух функциях цитаты в агиографическом тексте — стилистической и текстообразующей. известно, что цитаты являются важным стилевым фактором, одним из главных элементов «этикетного стиля» (термин д. с. Лихачева)27; в тексте они играют роль «стилистического ключа» (термин р. Пиккио)28.
весьма наглядно это может быть продемонстрировано на примере бинарных (парных) сочетаний — традиционных агиографических формул, составляющих значительную часть «цитатного фонда» священного Писания.
традиционная формула радость и веселие активно используется и так же активно преобразуется в разных текстах священного Писания:
гла ́ съ весе ́ л¿# и ̉ гла ́ съ ра ́ дости (иер 33: 11);
да возра ́ дuютс# и ̉ возвесел# ́ тс# w ̉ тебh ̀ вси ̀ (Пс 39: 17);
ра ́ дuис# и ̉ весели ́ с# дщи ̀ и ̉ дuме ́ йска (Плач 4: 21);
в качестве иллюстрации приведем одно из типичных «общих мест» агиографического текста — пассаж с мотивом похвалы святому — в кк:
^бго(м) дарованны(и), ра(д)остныи достохвалныи красный днь. просвhщаемъ свhтозарнымъ слнце(м) весел/е намъ дарова# и радость...
възрадоуемс# того праз(д)нестви радостною дшею
возвесели(м)с# весел/емъ ср(д)ца наше(г)^
ра ( д ) уите ( с ) праве ( д ) н^и w rh, и паки веселите ( с ) w rh, и ра ( д ) уитес# праве ( д ) н^и _ похвал#еми праве ( д ) ники возвесел#тс# люд^е (кк, 160–161 об.)
Увеличение синтаксического объема исходной формулы осуществляется за счет распространителя к каждому из ее компонентов ( весел^емъ ср ( д ) ца , радостною дшею ), что может сопровождаться и грамматическими преобразованиями ( радость — радоватис# — возрадоватис#; весел¿е — весе-литис# — возвеселитис# ). одним из свидетельств разрушения исходной формулы может служить возникновение новой структуры, в которой совмещены компоненты разных исходных синтагм ( радость и весел¿е; дuша и сердце ): возрадиемс# радостною дшею ; возвеселимс# весел^емъ ср ( д ) ца).
расширение текста приводит к развертыванию антитезы, имплицитно представленной уже новой (развернутой) структурой, созданной на базе ключевых слов исходной синтагмы. структурное преобразование текста неизбежно влечет за собой его семантическую экспликацию — семантическое обогащение.
несомненно, подобным структурам принадлежала особая роль в создании целостного текста. Цитируемые источники были хорошо известны, и поэтому «каждая цитата была наполнена глубоким смыслом и вызывала много ассоциаций. ...библейская образность, праздничность и мелодичность Псалмов украшали текст, делали его более торжественным и эмоционально выразительным»29.
обращает на себя внимание известная «орнаментальность» севернорусских житий30, что вполне естественно рассматривать как наследие предшествующего периода в истории жанра.
дело в том, что конец XIV—XV вв. — это расцвет экспрессивно-эмоционального стиля в агиографии, нашедшего впоследствии свое высшее (в художественном смысле) выражение в творчестве епифания Премудрого, затем Пахомия Логофета.
одну из важных черт этого стиля — как метафорически-сим-волического — подчеркивает другое его определение, предложенное о. ф. коноваловой.31
«извитие, или плетение словес» — своеобразный словесный орнамент, складывающийся из сочетания однокоренных и созвучных слов, синонимики и ритмики речи, нагнетания однородных эпитетов и сравнений, сложных синтаксических структур. не случайно исследователи отмечают связь его с рукописным орнаментом, распространенным в новгороде, Пскове, троице-сергиевой Лавре; в живописи это проявляется раньше — уже с XII в., в литературе — с конца XIV в.32
орнаментальность древнеславянской прозы исследователи определяют как «особенно интенсивное проявление поэтической речи. <...> Близость орнаментальной прозы к стиху выражается прежде всего в специфическом характере слова и в особенностях организации повествования»33.
следует указать и на особую ритмическую и синтаксическую организацию текста. основа организации текста в орнаментальной прозе — повтор и возникающие на его основе сквозная тема и лейтмотив.34
синонимия в стиле «плетение словес» представлена чаще всего бинарными построениями, что проявляется в виде повторения двух корней, двух слов, двух синонимов, двух понятий и т. д.35
Бинарность часто подчеркивается ассонансами и рифмой (обычно морфологической): т Ь( м ) же стыи того предвар»еть и абие невидимо рикоу помощи простираеть и wт вратъ смертных того сп ҃ саеть (вх, 277);
wв l и побиени быша , а ин х и мразомъ изомроша , инии же гладо ( м ) и жаждою оумГртвен х и быша , и мнози бе ( з ) в Ъ стно погибоша (ГП, 316) и др.
Бинарность проявляется как на уровне словосочетания, так и на уровне предложения (в последнем случае обычно говорят о синтаксическом параллелизме):
любы не завидить , не wплазuетъ , не гордитс А. не помни ( т ) злаго , не ра ( д ) оуетс А w неправд ^ ра ( д ) оует же с а w истин а (ВХ, 269 об.);
во дни w ( т ) огн а игар А емъ . в нощи ж стоуден х ю померзаемъ (КБ, 19 об.);
имже wбразо ( м ) желаетъ елень на источникы водны а. сице жела-етъ д ҃ ша мо ѧ къ б ҃ гоу кр ѣ пкомоу и жывомоу (ас, 76). (опосредованное сравнение).
характер орнаментальной прозы очень точно определен н. а. кожевниковой: здесь «слово... легко выходит за границы, поставленные ему языковой нормой...»36 «сталкиваются два стремления: с одной стороны, стремление к слитности, нерасчлененности, продиктованное общей ассоциативностью орнаментальной прозы, с другой — противоположное стремление, стремление к изоляции слова, его... выделению»37.
«все приемы “орнаментальной прозы”», как отмечает д. с. Лихачев, «рассчитаны на различные приращения смысла», на создание в тексте некоего «сверхсмысла», который не противоречит «смыслу», а «углубляет его, придает ему новые оттенки, объединяет слова с разными значениями, требует осознания читателем глубинного значения»38.
характерный стилистический прием орнаментальной прозы — прием амплификации — особенно ярко проявляется в присоединении, нанизывании эпитетов, сравнений, метафор и т. д. наглядным примером этого стиля может служить амплификация ритмическая, что находит свое отражение в анафорическом единоначатии, чередовании однокоренных слов, распространении звуковых повторов, в использовании созвучных окончаний и т. д.39
все эти виды амплификации хорошо иллюстрирует материал севернорусской агиографии XVI–XVII вв., содержащий многочисленные примеры анафорического единоначатия:
ты еси црь црмъ и г ( с ) ь господе ( м ).
ты еси избавитель вУроующи(м) в т». и разрушитель дшамъ, ты еси… ты еси… ты еси… ты еси… ты еси… (ГП, 308 об.)
При этом возможно чередование единоначатий (анафор):
i аще кто миръ любитъ , враг бж Т и бываетъ . разоум У еши ли аще кто миръ люби ( т ) . враг бж Т и бываетъ . и аще врагъ бж Т и бывает. ка л блг ( д ) ть в немъ бывае ( т ) . ка л къ бгоу блгодарен Г а ка л къ бгоу про-шен]а . и гд У в т У( х ) к бгоу молена............ и гд У оуслышане w ( т ) напастеи i избавле нiе огненаго гор ѣ ни ѧ (ас, 84-84 об.)
в последнем фрагменте наблюдается и созвучие окончаний.
Может многократно повторяться (нередко варьируясь) одна и та же грамматическая форма.
например:
радуис» , зв Ъ здо св Ъ тлеишаА......
радуис», свЪтоноснаА зар...А радуис», прелюбимаА весна радуис», источниче пресла(д)кыи...... (ет, 487);
слово радуис» 28 раз начинает период.
замечательный пример анафорического употребления слова гордыни находим в ас:
гордыни оубо мати есть вс Ь( м ) неправдамъ .
гордынею оубо лстивы ( и ) сотона w ( т ) паде .
гордынею оубо каинъ авел А оуби .
гордыни оубо ради бгъ потопъ на землю одож ( д ) и .
гордынею оубо......
гордынею оубо...
гордынею оубо...
w ( т ) гордыни ...
гордынею оубо...
мати бо есть вс Ь( м ) безакон ТА( м ) гордыни (ас, 95-99).
довольно большой фрагмент содержит порицание гордыни . с целью подчеркнуть перечисление, сделать его заметным, акцентировать на нем внимание читателя используется единоначатие. анафорически употребленное слово гордын ѧ фактически повторяется в начале каждого предложения, подчеркивая основную мысль. Это «ключевое» слово. раскрывая содержание понятия ‘гордыня’, демонстрируя разные стороны (грани) его, автор значительно углубляет объем самого понятия, что нашло отражение в заключительной сентенции: мати бо есть вс Ь( м ) безакон ТА( м ) гордыни .
При этом слово гордыни и его производные употреблены в отрывке 37 раз: гордыни — 3 раза, гордынею (тв. п.) — 15 раз, гордыни ради (род. п.) — 14 раз, W7 гордыни (Род. п.) — 1 раз, с отрицанием — нЪ(с) гордыни — 1 раз; однокоренные образования: горделивый (им. п.) — 1 раз, горделивым (дат. п., мн. ч.) — 1 раз, гордѧщихсѧ (род. п., мн. ч.) — 1 раз. Монотонность перечисления искусно устраняется варьированием с однокоренными образованиями и грамматически. слово гордыни не только начинает, но и заключает фрагмент. создается как бы рамочная конструкция. такая композиционная четкость не является самодовлеющей, ибо грамматический контекст, акцентируя внимание на слове гордыни, еще раз подчеркивает его смысловую весомость.
тонкое восприятие звуковой стороны языка позволяет создавать такие созвучия в конечных формантах слов:
и легко бо естъ и ( ж ) вземше на с а иго х ( е ) во и w ( т ) мира w ( т ) лоучи вшес А есть люто оубо и вправдоу люто еже оупив шимс а на ( м ) еамо хот е н т е ( м ) и еамо люб ие ( м ) и w ( т ) торгноувш имс А воел е( д ) похо-те ( м ) евои ( м ). и вда вшимс А етр ( е ) тем и елаете ( м ). и горд а щымс а и величаю щимс ѧ (ас, 84 об.).
здесь обращают на себя внимание формы действительных причастий настоящего времени, но также показательны некоторые конечные фрагменты слов, включающие часть корня и окончание: етр ( е ) тем — елаете ( м ) и т. д.
особую роль играют звуковые повторы; как правило, это связано с созданием звукового или цветового образа:
и вид е прп ( д ) бнаго лежаща въ гроб е на вере е земл А и wбра ( з ) его св е тло ев е т А С А. «ко фуникъ цв е т оущь и «ко кринъ въ оудоли ( х ) сiа А и роуц е его на пере е( х ) лежаща на кр ( е ) тъ еогбены... и тако ( ж ) ев е тяхис А «ко ев е( т ) (ЗС, 72 об. — 73).
в последнем случае градационный ряд представлен опорными словами, соотносимыми с понятиями ‘свет’ и ‘цвет’ (светить/ -ся, сиять; цвести).
еще более богатый градационный ряд, где актуализируются «свет», «цвет», «заря» (условно — «сияние» как интенсивность признака), представлен в ет:
и в е рою св е т лой о зар А и дн ( е ) ь и любов Т ю дховною подвизаа на в е чное жит Т е «ко кринъ во идол Т и про цв е т е про ев Ъ щ аа св е т ло . ет Ъ и тр ( о ) ци пре ( д ) етоа , темъ же вс а вееленаа озарившис А св е тозар ными лича=ми в пре ев ^ т лию пам я ть ^ блТдатью х"вою про ев ^ щ енъ и ( ж ) в теб е пропавши таковоми ев е т илники (ЗС, 388).
соединение одних и тех же слов или слов с ассонансами не является здесь формальным приемом. Повторение слов, концентрация слов с одинаковым корнем всегда имеет сложный, но при этом разнообразный и не бросающийся в глаза смысловой порядок. Это связано с тем, что повторяются и сочетаются не случайные слова, а «основные по смыслу», «ключевые для данного текста»40.
особая функция и у синтезированной формы (образованной соединением корней св ѣ т - и зар -) св ѣ тозарныи . сложное слово здесь — своего рода определение, замкнутое в своей завершенности, как бы заключительное слово характеристики, вобравшей «в себя уже выявленные сравнением признаки»41; обогащенное добавочными смыслами, оно равнозначно целой синтагме (словосочетанию). образованное сближением одинаково важных в высказывании корней, фактически это слово общего рода (гипероним), поскольку вбирает в себя созначения — семы ‘свет, сияние, блеск’, также ‘светило, носитель света духовного; божественное начало’ и ‘заря, свет, сияние’ компонентов св ѣ т - и зар -.42
особого внимания заслуживает вопрос о сложных словах в агиографическом тексте, и прежде всего об их словообразовательном и функциональном статусе.
Безусловно, «словообразование является одним из важнейших языковых факторов стилистической организации текста»43; это вполне подтверждается функционированием сложных слов в древнерусском языке.
имеется достаточно показательный материал, демонстрирующий роль сложений как образного языкового средства. они используются с целью разнообразия языка и стиля изложения, для реализации богатых синонимических возможностей родного языка. значительная семантическая нагрузка сложного слова в древнерусском тексте делает его своего рода смысловым центром, организующим текст.
отсюда и повышенная экспрессивность таких сложений-гиперонимов.
Эти особенности функционирования сложных слов в агиографическом тексте вполне подтверждаются и материалом севернорусской агиографии XVI-XVII вв.44
Показателен еще один фрагмент из проложной части ас, где прославляется святой:
не оу вечерн А го св Ь та св ^ тилницы злат х и . св Ъ щ а на ни ( х ) злат ы св Ь тилницы же злати . злато оубо искоушаетс А wгне ( м ) и просщает- с а . тако и т Ь( х ) млтвы и троуды и посты . простишас А пре ( д ) бгомъ wбнощнымъ сто»н х емъ . «коже бо св Ъ ща на св Ь тилнице . тако дша и ( х ) в роуц Ъ вл ( д ) кы вс Ь( х ) «ко св Ъ ща св Ъ т а тс а . вправдоу оубо св е тила иже в роусьст Ъ мъ острове прослывше . «ко ( ж ) св Ъ щы в темне м Ъ сте сiаютъ прп ( д ) бн х и w ( т ) цы наши и ст х и . лютоую невид Ъ н хА л е ности наше А просщаютъ . паче же провос х а во вс Ъ( х ) прп ( д ) бны ( х ) w ( т ) ць нашь ан-тон х е . (ас, 82 об. — 83 об.).
ключевое слово здесь св ѣ тъ . Широко представлены однокоренные с ним слова в разных вариациях (варьирование на грамматическом и словообразовательном уровнях). но в синтаксическую структуру «вплетаются» и ассоциативно связанные слова с корнем злат -, что создает зрительный (цветовой) образ. в этом случае особую роль играют звуковые повторы (звуковые ассонансы — с, з, л). выстраивается градационный ряд: св Ъ т — злато ( злат- ) — с х аютъ — провос х а .
несомненно, мы имеем дело с тщательно продуманным использованием слов, связанных со светом .
концентрация ключевых «светоносных» слов в пределах одного высказывания является одним из средств повышения эмоциональности изложения.45
как известно, свет — один из символов в конфессиональной литературе. евангельская метафора свет широко использовалась древнеславянскими и древнерусскими книжниками (и агиографами).
Эстетика света, разработанная еще дионисием ареопагитом и симеоном новым Богословом, получила в славянской средневековой культуре широкое распространение.46
в ряде случаев довольно показательно сопоставление нашего материала с материалом двух житий, которые могут считаться классическими образцами орнаментальной прозы, — сП и ср.47
-
I. слава богу о всемь и всячьскых ради , о них же всегда про слав ляется великое и трисвятое имя , еже и присно про слав ляемо есть...... в ѣ сть бо господь слав ити славящая его и благо слав ляти благо сла вящая его , еже и присно про слав ляет своя угодники , слав ящая его житием ... (ср, 1)
...да w ( т ) вс Ь( х ) бгъ про славл д етс А, иже тако и по преставлен и и своего оугодника про слав и таково блаженного жит и е wтца не токмо бо бга того в живот Ь про слав и , но множае по преставлен и ю , «ко да оув Ь ро-уютс А вси познаютъ . «ко про слав л д ющи ( х ) бга бгъ т Ь( х ) болми про слав лены твори ( т ), про славл яющи ( х ) м а бо про слав лю... (ВХ, 286 об.)
-
II.
един инок, един взъ един енный и у един енный и у един яяся, един у един енный , един един ого бога на помощь призывая , един един ому богу мол ѧ с ѧ и глагол ѧ (сП, 72).
и нача ( т ) иевъ помышл д а в себ Ь глати «ко оубо един а в Ь ра и во един оу црквь и един ъ бгъ въ тр ( о ) ци (ет, 419).
Приведенные фрагменты с корнями слав - и един - очень хорошо показывают: в пышности и украшенности некоторые северные жития не уступают классическим образцам стиля «плетение словес».
рассмотренные здесь наиболее яркие художественно-изобразительные особенности севернорусских житий XVI–XVII вв. обнаруживают много общего со стилистикой житий XIV — начала XV вв., таких как сП и ср, которые могут считаться классическими образцами орнаментальной прозы.
но в северных житиях есть, разумеется, не только общее с агиографическими текстами других ареалов, но и свое, специфическое, характеризующее определенную локальную группу.
выявление и описание этих специфических особенностей возможно и целесообразно при комплексном исследовании памятников агиографического жанра. здесь же, ввиду разнообразия затронутых моментов, удалось дать общую и потому в каком-то смысле предварительную характеристику материала.
Представляется, что сопоставительное изучение жанрово-стилистических особенностей памятников определенного (в данном случае агиографического) жанра различной хронологии и локализации безусловно оказывается перспективным, так как позволяет проследить эволюцию агиографического стиля, связанную с длительной традицией его бытования.
Список литературы К характеристике художественно-изобразительных особенностей северно-русской агиографии
- Библия: Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета на церковнославянском языке с параллельными местами. М.: Росс. библейское общество, 2005. 1658 с.
- Житие Антония Сийского, по рукописи РН Б, XVI в., Q. 1.22, лл. 73–368 об.
- Житие Варлаама Хутынского, по рукописи РН Б, XVI в., Пог. 871, лл. 265 об. — 286 об.
- Житие Григория Пельшемского, по рукописи РН Б, XVI в., Пог. 853, лл. 301–326 об.
- Житие Дмитрия Прилуцкого, по рукописи РН Б, XVI в., Соф. 1361, лл. 201–221 об.
- Житие Евфросина Толвского, по рукописи РН Б, XVI в., Соф. 1424, лл. 324 об.–388.
- Житие Зосимы и Савватия Соловецких по рукописи РН Б, XVI в., Кир.-Бел. 35/1274, лл. 1–150.
- Житие Кирилла Белозерского, по рукописи РН Б, XVI в., Пог. 732, лл. 1–110 об.
- Житие Корнилия Комельского, по рукописи РН Б, XVII в., Пог. 787, лл. 68–180.
- Житие Сергия Чудотворца и похвальное ему слово, написанное учеником его Епифанием Премудрым // Памятники древней письменности. СПб., 1885.
- Житие Стефана Пермского (Изд.: Повесть о Стефане, епископе Пермском. Слово о житии и учении святаго отца нашего Стефана, бывшего в Перми Епискупа // Памятники старинной русской литературы. СПб., 1862);
- Жития Сергия Радонежского (Изд.: Житие Сергия Чудотворца и похвальное ему слово, написанное учеником его Епифанием Премудрым // Памятники древней письменности. СПб., 1885).
- Повесть о Стефане, епископе Пермском. Слово о житии и учении святаго отца нашего Стефана, бывшего в Перми Епискупа // Памятники старинной русской литературы. СПб., 1862.
- Аверина С. А. Человеколюбие и милосердие (сложное слово в агиографическом тексте) // Динамика русского слова: Межвуз. сб. статей к 60-летию проф. В. В. Колесова. СПб., 1994. С. 55–62.
- Аверина С. А. К жанрово-стилистической характеристике севернорусской агиографии (на материале севернорусских житий XVI в.) // Историческая стилистика русского языка. Межвузовский сборник научных трудов. Петрозаводск, 1990. С. 61–70.
- Аверина С. А. Цитата в житийном тексте // Грани русистики: Филологические этюды: Сборник статей, посвященный 70-летию профессора В. В. Колесова. СПб.: Филологический факультет С.-Петербургского гос. ун-та, 2006. С. 217–222.
- Аверина С. А. Цитата в житийном тексте (на материале памятников поздней севернорусской агиографической традиции) // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология, 2016. № 2(34). С. 5–16.
- Алексеев А. А. Текстология Славянской Библии. СПб.: Дмитрий Буланин, 1999. 254 с.
- Алексеева Е. Л. Текстологическое значение структуры цитат из Священного Писания в оригинальных древнерусских житиях // Материалы XXXI Всеросс. науч.-метод. конф. преподавателей и аспирантов. Вып. 4: Секция прикладной и математической лингвистики. СПб.: Филол. фак-т С.-Петерб. ун-та, 2002. Ч. I. С. 8–13.
- Афиногенов Д. Е. Житийная литература // Православная энциклопедия. Т. XIX. Ефесянам послание — Зверев. М.: Церковно-научный центр «Православная энциклопедия», 2008. С. 283.
- Берман Б. И. Читатель жития (Агиографический канон русского средневековья и традиции его восприятия) // Художественный язык Средневековья / Отв. ред. В. А. Карпушин. М., 1982. С. 159–182.
- Бычков В. В. Русская средневековая эстетика XI–XVII века. М.: Мысль, 1995. 637 с.
- Двинятин Ф. Н. Традиционный текст в торжественных словах св. Кирилла Туровского. Библейская цитация // Герменевтика древнерусской литературы. М., 1995. Сб. 8. С. 81–101.
- Иванова М. В. Древнерусские жития конца XIV–XV веков как источник истории русского литературного языка. М., 1998. 232 с.
- Кожевникова Н. А. Из наблюдений над неклассической («орнаментальной») прозой // Известия АН СССР . Сер. лит. и яз. 1976. Т. 35. № 1. С. 55–66.
- Колесов В. В. Древнерусский литературный язык. Л.: Изд-во ЛГУ, 1989. 296 с.
- Коновалова О. Ф. Об одном типе амплификации в Житии Стефана Пермского // Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л., 1970. Т. XXV. С. 73–80.
- Коновалова О. Ф. Плетение словес и плетеный орнамент конца XIV в. (К вопросу о соотношении) // Труды Отдела древнерусской литературы. М.; Л., 1966. Т. XXII. С. 101–111.
- Лихачев Д. С. Поэтика древнерусской литературы. 3-е изд., доп. М.: Наука, 1979. 352 с.
- Мещерский Н. А. Источники и состав древней славянорусской переводной письменности IX–XV веков. Л.: Изд-во ЛГУ, 1978. 112 с.
- Николаев Г. А. Русское историческое словообразование: теоретические проблемы. Казань: Изд-во Казан. ун-та, 1987. 151 с.
- Петрова В. Д. Функция света в южнославянской и древнерусской агиографии XIII–XV вв. // 1100 година Велика Преслав. 2. Великопреславски научен събор (16–18 септември 1993 г. Шумен, 1995. С. 359–366.
- Полякова С. В. Византийские жития как литературное явление // Жития византийских святых / Пер. с нем. СПб.: Corvus, «Terra Fantastica», 1995. С. 5–38.
- Рогачевская Е. Б. О некоторых особенностях средневековой цитации (на материале ораторской прозы Кирилла Туровского) // Научные доклады высшей школы. Филологические науки. 1989. № 3. С. 16–20.
- Руди Т. Р. Жития святых // Православная энциклопедия. Т. XIX. Ефесянам послание — Зверев. Церковно-научный центр «Православная энциклопедия». М., 2008. С. 283–284.
- Руди Т. Р. Топика русских житий (вопросы типологии) // Русская агиография: Исследования. Публикации. Полемика / Отв. ред. С. А. Семячко. СПб.: Дмитрий Буланин, 2005. С. 59–101.
- Picchio R. The Function of Biblical Thematic Clues in the Literary Code of Slavia Ortodoxa // Slavica Hierosolymitana. 1977. Vol. 1. P. 1–16.
- Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.) / Гл. ред. Р. И. Аванесов. Т. 3. М.: АН СССР . Ин-т рус. яз., 1988. 511 с.
- Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 5 / Гл. ред. С. Г. Бархударов. М.: Наука, 1978. 392 с.
- Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 23 / Ин-т русского языка. М.: Наука, 1996. 253 с.