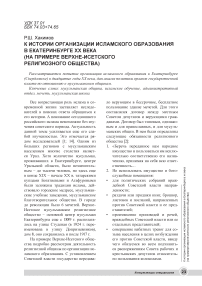К истории организации исламского образования в Екатеринбурге ХХ века(на примере Верхне-Исетского религиозного общества)
Автор: Хакимов Рашид Шавкатович
Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu
Рубрика: Консультации специалиста
Статья в выпуске: 4 (22), 2013 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается попытка организации исламского образования в Екатеринбурге (Свердловске) в двадцатые годы ХХ века, дан анализ политики органов государственной власти по отношению к мусульманским общинам.
Мусульманская община, исламское обучение, административный отдел, мечеть, мусульманская школа
Короткий адрес: https://sciup.org/14239865
IDR: 14239865 | УДК: 37.01
Текст научной статьи К истории организации исламского образования в Екатеринбурге ХХ века(на примере Верхне-Исетского религиозного общества)
Все возрастающая роль ислама в современной жизни заставляет исследователей в поисках ответа обращаться к его истории. А понимание сегодняшнего российского ислама невозможно без изучения советского периода. Актуальность данной темы усиливается еще его слабой изученностью. Это отмечается рядом исследователей [1; 14]. Одним из больших регионов с мусульманским населением многие столетия является Урал. Хотя количество мусульман, проживавших в Екатеринбурге, центре Уральской области, было незначительным – до тысячи человек, но здесь еще в конце XIX – начале XX в. татарскими купцами Богатиевыми и Агафуровыми были заложены традиции ислама, действовало городское медресе, мусульманские учебные заведения, мусульманское благотворительное общество. В городе до революции было 6 мечетей. Верхне-Исетское мусульманское религиозное общество – основной центр мусульман Екатеринбурга еще с 1889 г. располагалось на улице Студеная (в 1924 г. переименована в улицу Допризывников), дом 8, оно сохранилось и после 1917 г.
На примере Верхне-Исетского общества подробно рассмотрим деятельность религиозной общины по организации исламского образования. С установлением Советской власти государство передава- ло верующим в бессрочное, бесплатное пользование здание мечетей. Для этого составлялся договор между местным Советом депутатов и верующими гражданами. Договор был типовым, одинаковым и для православных, и для мусульманских общин. В нем были определены следующие обязанности религиозного общества [2]:
-
1. «Беречь переданное нам народное имущество и пользоваться им исключительно соответственно его назначению, принимая на себя всю ответственность…
-
2. Не использовать имущество и богослужебные помещения:
-
• для политических собраний враждебной Советской власти направленности;
-
• раздачи или продажи книг, брошюр, листовок и посланий, направленных против Советской власти и ее представителей;
-
• произнесение проповедей и речей, враждебных Советской власти или ее отдельных представителей;
-
• совершение набатных тревог для созыва населения в целях возбуждения его против Советской власти, ввиду чего обязуемся во всем подчиняться распоряжениям Совета рабочих и крестьянских депутатов относительно пользования колоколами.
К истории организации исламского образования в Eкатеринбурге в хх века (на примере верхне-исетского религиозного общества)
Р.Ш. Хакимов
-
3. Мы обязуемся из своих средств производить оплату всех текущих расходов по содержанию храма, по ремонту, отоплению, страхованию, охранению и по оплате долгов, налогов, местных обложений…..
-
4. Мы обязуемся допускать беспрепятственно, во внебогослужебное время, уполномоченных Советами рабочих и крестьянских депутатов лиц к персональной проверке и осмотру имущества».
При анализе договора четко прослеживается его политическая направленность – полное подчинение Совету депутатов, регламентация внутренних вопросов деятельности общины, например, в отношении колокольного звона, полностью исключалась всякая политическая деятельность, направленная против Советской власти. И не случайно, регистрация религиозной общины согласовывалась с органами ОГПУ.
Такой договор был составлен и с Верхне-Исетским религиозным мусульманским обществом [2]. Устав религиозного общества был зарегистрирован 30 ноября 1923 г.
Анализ Устава также позволяет сделать вывод о значительном подавлении прав членов общества. Так, например, была предусмотрена ежегодная отчетность по персональному составу, возможность закрытия общества по субъективным причинам (арест членов общества, по постановлению вышестоящего органа власти).
На 10 августа 1923 г. в составе Верхне-Исетского общества было 67 верующих. Представляет интерес анализ состава религиозного общества. В Верхне-Исетское общество входили по роду занятий: извозчик, мелкий торговец, барахольщик (торговец на вещевом рынке), рабочий, шапошник, служащий, портной, электромонтер, лицо без неопределенных занятий, домохозяйка; по образованию: в основном с низшим образованием; по социальному происхождению – из крестьян.
На собрании общества избиралось правление из 5 человек: 3 избирались прихожанами и 2 входили по должности – мулла и муэдзин, оно было исполнительным органом мусульманского религиозного общества.
Муллой общины был избран Гирфан Шейхмарданович Рахманкулов 1874–1942), высокообразованный и уважаемый религиозный деятель и педагог. Активная гражданская позиция имама, его просветительская и общественная деятельность вызывала недовольство властей. В 1920-х гг. он был лишен избирательного права как «не проявивший лояльности к советской власти». Председателем правления общины был избран Мингазетдин Минибаевич Амиров, муэдзином – Мигазетдин Минибаев.
Придание религиозным общинам статуса юридических лиц позволило государственным органам установить действенный контроль за их деятельностью. Церковь (мечеть) стала не столько отделенной от государства, сколько поднадзорной властям. Повседневный контроль за религиозными общинами был возложен на органы внутренних дел, и конкретно – на административные отделы при исполкомах Советов (районный, городской адмотдел – окружной адмот-дел – областной адмотдел). Ежегодно в местные исполкомы Советов общины должны были подавать списки верующих, членов правления и служителей культа с указанием места жительства и рода занятий. Была установлена система мелочной регламентации всех, даже внутренних вопросов деятельности религиозных общин. Так, для проведения собрания верующие писали заявления в административный отдел окружного или районного исполкома. Заявления подавались заранее. После рассмотрения административный отдел принимал решение, в случае разрешения давалось письменное разрешение на проведение собрания. После собрания разрешение возвращалось в административный отдел вместе с протоколом собрания. Административный отдел исполкома с пометкой «Секретно» обо всех намеченных собраниях извещал органы ОГПУ и милицию с указанием повестки собрания. Можно также предположить с большой долей вероятности, что согласование с органами ОГПУ использовалось органами для направления своих секретных информаторов на эти собрания и проведения оперативной работы.
Инспектор адмотдела проводил регулярные проверки религиозных общин. Так, 3 ноября 1927 г. инспектор Свердловского окружного адмотдела П.П. Веденев произвел обследование деятельности мусульманского общества. Отмечено, что здание одноэтажное, каменное, старое, состоит из 4 комнат, прихожей и коридора. В своем акте проверяющий записал: «Здание отремонтировано общиной летом 1926 г., в настоящее время в ремонте не нуждается. Земельная рента уплачена за 1927 г. полностью. Община имеет в своем ведении мусульманское кладбище с имеющимся на нем домиком для сторожа и покойницкой. На кладбище имеется сторож, содержащийся на средства общины. Община производит ремонт кладбищенской ограды» [4]. Фактически мусульманская община несла на себе по существу расходы городского хозяйства, содержала за свой счет сторожа и проводила ремонт кладбищенской ограды.
Любое религиозное течение заботится о своем будущем, стремится передать свое вероучение молодым, чтобы сохранить свою преемственность. Поэтому и для членов мусульманской общины актуальным был вопрос обучения основам веры своих детей.
Как известно, Декрет СНК РСФСР от 23 января 1918 г. «Об отделении церкви от государства и школы от церкви» не допускал преподавание вероучения во всех государственных, общественных и частных учебных заведениях. За нарушение этого запрета Уголовный Кодекс РСФСР 1922 г. предусматривал наказание в виде принудительных работ на срок до 1 года (ст. 121). Верующие все годы добива- лись отмены этого запрета, и в октябре 1924 г. ЦИК и СНК СССР своим постановлением разрешили создание богословских школ при мечетях и религиозное обучение на дому.
Верхне-Исетское мусульманское общество, исходя из правительственного разрешения на обучение детей религии, 19 сентября 1925 г. открыло школу для обучения детей. Две недели велось обучение без письменного разрешения, но с уведомлением административного отдела. 20 октября мусульманская община обращается с просьбой открыть в городе Свердловске мусульманскую школу в помещении мечети по адресу ул. Допризывников, дом 8. В ответ на инициативу верующих мусульман президиум Уральского областного исполкома крестьянских, красноармейских, рабочих и солдатских депутатов 2 декабря 1925 г. направляет письмо всем Окрисполкомам под грифом «Секретно» о том, что при решении вопроса «учесть обстоятельства [5]:
-
• преподавание мусульманского вероучения разрешается только детям, по документам окончившим школу первой ступени и достигшим 14-летнего возраста;
-
• разрешение на занятия по заявлениям административного отдела Окрисполкома и допускается в таких мечетях, которые по заключениям органов просвещения и здравоохранения удовлетворяют всем санитарно-техническим требованиям;
-
• от преподавателей – подписка, что они кроме изучения религиозных вопросов никаких образовательных предметов и учебу вести будут только в часы после занятий в советских школах под наблюдением и контролем;
-
• все мероприятия, связанные с проведением прилагаемой инструкции осуществлять со всей осторожностью, но твердо, не допуская половинчатости в решениях, избегая осложнений со стороны фанатично настроенного населения.
К истории организации исламского образования в Eкатеринбурге в хх века (на примере верхне-исетского религиозного общества)
Р.Ш. Хакимов
Рассмотрев заявление общины, административный отдел своим решением от 4 ноября 1925 г. отказывает в выдаче разрешения, обосновывая свое решение тем, что комиссия в составе инспекторов окружного отдела народного образования Уварова и Ахметова в акте от 19 октября признала помещение непригодным для школы. Комиссия отметила, что нет теплого туалета, мебель непригодна для занятий, рядом с комнатой для занятий помещается квартира муллы. В то же время отмечено, что имеется бак для кипяченой воды, стены комнаты побелены, ее размер 6,5 аршинов на 5,75, высота 5,2 аршина (примечание: аршин – 71,12 см), имеется два окна, проведено электрическое освещение. В школе занимается 5 учащихся – 4 мальчика и 1 девочка, все старше 14 лет.
Религиозная община исправила выявленные недостатки, помещение проверил врач санэпидотдела Свердловского окружного здравотдела Упоров. Следует отметить проявленную им объективность при проверке. В акте от 29 ноября 1925 г. отмечается, что «световая поверхность – до 2-х квадратных метров, потолок и стены оштукатурены, выбелены, пол крашенный, два вентилятора, один (вытяжной – в печи, другой – в окне. Кроме того, есть постоянная вытяжка в русской (кухонной) печи, в помещении тепло и сухо. Заключение: осмотренное помеще- ние может быть отведено для школьных занятий с детьми (до 15 человек)» [6]. Община направляет новое заявление с просьбой об открытии школы и выражает надежду, что «…весь этот вопрос не будет иметь затяжной характер и будет решен положительно». Преподавателем школы был определен мулла Г.Ш. Рахманкулов.
Однако 11 января 1926 г. окружной административный отдел извещает об отказе, мотивируя тем, что занятия «допускается только в мечетях, а здание по улице Допризывников и Антона Валека № 15/8 является молельным домом с квартирой муллы, а не мечетью». Ответ подписал начальник административного отдела Окрик, начальник милиции округа Тестов. Здесь органы власти используют уже совершенно другое обоснование для того, чтобы не удовлетворять просьбу верующих.
Мусульманская община, не удовлетворившись данным ответом, обращается с ходатайством в президиум Свердловского городского Совета, но 22 июня 1926 г. получает отказ и от этого органа. 7 сентября 1926 г. подается жалоба в Уральский административный отдел, создается комиссия для обследования. Однако жалоба в итоге остается без удовлетворения. Верующие направляют новое обращение в Малый президиум Уральского облисполкома, но своим решением от 20 мая 1927 г. малый президиум только подтвердил постановление президиума окрисполкома от 22 июня 1926 г. об отклонении ходатайства [7]. Почти двухлетнее хождение по инстанциям окончилось для верующих безрезультатно.
28 мая 1928 г., с началом нового наступления на религию, Президиум ЦИК СССР отменил постановление ВЦИК от 9 июня и 28 августа 1924 г., был установлен полный запрет преподавания мусульманского вероучения, и началось массовое закрытие медресе и мектебов. Была отработана специальная тактика действия партийных и советских орга- нов по осуществлению данного решения. Так, Башкирский обком ВКП (б) направил Аргаяшскому канткому ВКП (б) секретное письмо от 3 сентября 1928 г. (Аргаяшский кантон БАССР – территория преимущественно с башкирским населением, анклав внутри Уральской области, в 1934 г. был передан Челябинской области). Это письмо интересно тем, что здесь раскрывается вся тактика действий партийных органов: «Существование декрета, разрешающего открытие мусульманских религиозных школ было связано с культурно-экономической отсталостью народностей Востока, недостаточностью сети школ наркомпроса, а главное – с огромным влиянием мусульманского духовенства на население. Культурноэкономический рост и некоторое ослабление мусульманского духовенства в данный момент позволяет принять меры к ликвидации этих школ. Дальнейшее сохранение этих школ в условиях культурно-экономического роста населения, когда основная масса крестьянства, бедноты и середняков начала отходить от религии, будет тормозом к развитию, и эти школы будут орудием в руках врагов Советской власти. 4-х летняя практика существования религиозных школ доказала, что трудовая масса не интересуется обучением детей в духовных школах, наоборот, есть большая тяга к обучению детей в советских школах, что религиозные школы используются духовенством для воспитания ненависти к советскому государству и против его мероприятий.
Исходя из этих соображений, ЦИК СССР решил отменить декрет о допуске преподавания вероучения в мечетях среди восточных национальностей, но проведение в жизнь этого решения необходимо (по политическим соображениям) проделать при наличии требований со стороны самого населения. Поэтому необходимо создать общественное мнение и организовать «поход» большинства населения на религиозные школы, закрытие этих школ должно пройти не как административный нажим, а как удовлетворение правительством запросов масс, для чего необходимо проделать большую работу по созданию общественного мнения…
Обком рекомендует:
-
• на закрытых партсобраниях и комсомольских собраниях поставить вопрос о методах агитационно-пропагандистской работы по созданию общественного мнения за закрытие религиозных школ;
-
• обсудить этот вопрос на профсоюзных собраниях;
-
• на собраниях бедноты добиться тех же результатов, что и на профсозных собраниях;
-
• привлечь членов сельсовета, делегаток женотдела;
-
• члены общества безбожников, сельская интеллигенция должны быть привлечены к индивидуальной обработке;
-
• все решения актива, собраний бедноты, членов профсоюза направлять в редакцию областных газет…. Секретарь Башобкома ВКП (б) Исмагилов. Зав АПО (агитационно-пропагандистский отдел) Уразаев» [8].
В данном партийном документе обращает на себя внимание ряд характерных моментов: тактическая выверенность действий партийных организаций (выбрать нужный момент), всесторонний, системный подход, привлечение всех общественных групп и слоев к достижению поставленной задачи – формирование общественного мнения в пользу закрытия религиозных школ, стремление скрыть истинных инициаторов, «индивидуальная обработка», создание гласности через направление решений в газеты, и, наконец, использование приема обмана – «воспитание ненависти в религиозных школах». Все это говорит о сложившихся методах антирелигиозной работы.
Партийные и советские органы организовали кампанию закрытия церквей и мечетей как идущую снизу, от рабочих и крестьян. Закрытию мечетей и церквей предшествовала «предварительная
К истории организации исламского образования в Eкатеринбурге в хх века (на примере верхне-исетского религиозного общества)
работа». Кампания разбивалась на два периода: а) проработка вопросов использования религиозных зданий с организациями и одновременное усиление антирелигиозной работы; б) массовая работа с принятием резолюций различных собраний, митингов-демонстраций с требованиями к гор/сельсовету о закрытии ряда мечетей ввиду жилищного кризиса, с жалобами на отсутствие помещений для культурных учреждений и слабое использование мечетей населением. В архиве имеются протоколы собрания рабочих татарской и башкирской национальности, строителей Уралмашстроя численностью 260 человек с требованием немедленно ликвидировать мечеть. Собрания проходили в короткий срок, с 9 по 12 февраля 1930 г. Уже это, несомненно, подтверждает, что эти собрания были хорошо организованными. Приведем выписку из протокола собрания татаро-башкирских рабочих, находящихся в бараках Коммунстроя от 11 февраля 1930 г., где присутствовало 42 человека: «Постановили взять мечеть из рук спекулянтов города Свердловска, каковую просить Горсовет передать под татаробашкирский детсад» [9].
Ввиду данного утверждения («мечеть в руках спекулянтов») интересно посмотреть состав Совета общины. Совет состоял из 5 членов – председатель Совета, железнодорожный рабочий, 46 лет, Нагуманов Гилман, он сменил на должности председателя Исмагила Аджигитова Мухамедзянова, 1888 г. рождения, работавшего составителем поездов. Также в Совет входил стрелочник 45-ти лет, ломовой извозчик 35-ти лет, безработный 47-ми лет, сторож 60-ти лет. Лиц, занимающихся частной торговлей, или по понятиям того времени, спекуляцией, в списке не обнаружено.
После проведенных собраний Свердловский горсовет, ссылаясь на обращения рабочих, обращается в президиум Уральского областного исполнительного комитета с просьбой о расторжении договора с мусульманской религиозной общиной и о передаче мечети под детский сад [10].
Малый президиумУралоблисполкома оперативно рассматривает это обращение, и уже 5 марта 1930 г. выносит постановление о закрытии мечети [11]. Совету общины предлагается в трехмесячный срок освободить здание, следует предупреждение, что в случае невыполнения будет произведено выселение в административном порядке.
В Свердловске была развернута антирелигиозная компания под лозунгом «Столице Урала церкви не нужны». Наступление на религию усиливалось с каждым годом. Так, если за первое десятилетие Советской власти на Урале было закрыто около 400 церквей, мечетей, синагог и молитвенных домов [12], то в 1929 г. в Уральской области было закрыто 229, а в 1930–1931 гг. 1225 молитвенных зданий [13]. Закрытие сопровождалось изъятием ценностей, молитвенных принадлежностей, публичным сожжением икон, литературы, разрушением минаретов, снятием колоколов.
Партийно-государственная власть в СССР, первоначально заявив об уважении прав верующих, приняв декреты об отделении церкви от государства и школы от церкви в первой десятилетие проводила политику определенной терпимости к исламу в целях привлечения к себе симпатий мусульманских народов Востока. Однако после укрепления Советской власти, она перестала нуждаться в этом и скрывать свою стратегическую цель – уничтожение религии как формы инакомыслия в советском обществе. Это ярко проявилось и на примере уничтожения исламского образования на Урале.
Список литературы К истории организации исламского образования в Екатеринбурге ХХ века(на примере Верхне-Исетского религиозного общества)
- Ислам на Урале: энциклопедический словарь. Серия «Ислам в Российской Федерации». Вып. V. -М.; Н. Новгород: ИД «Медина», 2009. -С. 5, 124.
- ГАСО. Ф.Р-575. Оп.1.Д.9. Л.1.
- ГАСО. Ф.Р-575.Оп.1.Д.9. Л.Л.21-28.
- ГАСО. Ф.Р-575. Оп.1. Д.9. Л.182.
- ГАСО. Ф.Р-575. Оп.1.Д.9. Л.101.
- ГАСО. Ф.Р-575.Оп.1.Д.9. Л.118.
- Г А С О. Ф. Р -5 7 5. О п.1. Д. 9. Л.Л.152,162,192.
- ОГАЧО. Ф. 196. Оп.1. Д.22А. Л.244.
- ГАСО. Ф.Р-575. Оп.1.Д.9.Л.197.
- ГАСО. Ф.Р-575. Оп.1.Д.9.Л.Л.192,194, 195, 196, 197, 192.
- ГАСО.Ф.Р-575.Оп.1.Д.22. Л.21.
- Пролетарская мысль. 1930. 30 января.
- Урал: век двадцатый. Люди. События. Жизнь. Очерки истории/под ред. А.Д. Кириллова, Н.Н. Попова. -Екатеринбург: Уральский рабочий, 2000. -С. 122.
- Юнусова А.Б. Ислам в Башкортоста-не. -Уфа.: Уфимский полиграфкомбинат, 1999. -С. 4.