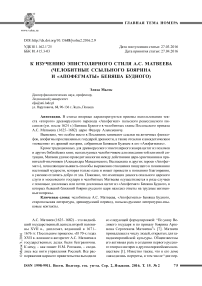К изучению эпистолярного стиля А. С. Матвеева (челобитные ссыльного боярина и "Апофегматы" Беняша Будного)
Автор: Малэк Элиза
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Главная тема номера
Статья в выпуске: 2 т.15, 2016 года.
Бесплатный доступ
В статье впервые характеризуются приемы использования текста «второго» древнерусского перевода «Апофегмат» польского ренессансного писателя (ум. после 1624 г.) Беняша Будного в челобитных главы Посольского приказа А.С. Матвеева (1625-1682) царю Федору Алексеевичу. Выявлено, что особое место в Посланиях занимают ссылки на античных философов, апофегмы прославленных государей древности, а также отсылки к анекдотическим «повестям» из древней истории, собранным Беняшем Будным в его «Апофегматах». Кроме традиционных для древнерусского эпистолярного жанра цитат из псалмов и других библейских книг, используемых челобитчиком для описания той или иной ситуации, Матвеев удачно проводит аналогии между действиями царя-христианина и правителей-язычников (Александра Македонского, Веспасиана и других героев «Апофегмат»), позволяющие выявить способы выражения отношения пишущего к пониманию настоящей мудрости, которая только одна и может привести к познанию благонравия, к умению отличать добро от зла. Показано, что имитация диалога опального царского слуги и московского государя в челобитных Матвеева осуществляется в ряде случаев с помощью дословных или почти дословных цитат из «Апофегмат» Беняша Будного, в которых бывший ближний боярин русского царя находил ответы на трудные жизненные вопросы.
Челобитные а.с. матвеева, "апофегматы" беняша будного, старопольская литература, древнерусский перевод, польско-русские литературно-языковые контакты
Короткий адрес: https://sciup.org/14969976
IDR: 14969976 | УДК: 811.162.1’25 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2016.2.9
Текст научной статьи К изучению эпистолярного стиля А. С. Матвеева (челобитные ссыльного боярина и "Апофегматы" Беняша Будного)
DOI:
А.С. Матвеев (1625–1682) – это виднейший государственный деятель второй половины XVII в., дипломат, ведавший в 1671– 1676 гг. Посольским приказом. «В 70-х годах XVII в. влияние и авторитет А.С. Матвеева в государственных делах были безграничны. К нему, – как пишет Н.М. Рогожин, – сходились все нити управления Россией. Все распоряжения царского правительства выходили со следующей формулировкой: “По указу Великого государя и по приказу боярина Арте-мона Сергеевича Матвеева”» [7]. Матвеев принадлежал к числу людей, открытых для западноевропейской культуры. Общеизвестны его активная роль в создании первого русского театра и интерес к другим европейским новшествам [1]. Известно также, что в его доме «находились портреты, в том числе “две пер- соны королей польских, Михаила да Яна”» [2, c. 85], а также богатая библиотека. С польской культурой Матвеев имел возможность соприкоснуться уже в 1650-х гг., когда по поручению царя Алексея Михайловича ездил в Вильно на переговоры с гетманом В. Гонсев-ским [8].
Но эта блестящая карьера царского стольника и ближнего боярина закончилась вместе с неожиданной смертью Алексея Михайловича. В результате дворцовых интриг Матвеев был обвинен во многих преступлениях, в том числе в чернокнижии, и сослан вместе с семьей в далекий Пустозерск, где провел 7 лет (1676–1682). Оттуда он неоднократно обращался с челобитными к царю Федору Алексеевичу, к патриарху Иоакиму и другим влиятельным лицам.
Эпистолярное наследие А.С. Матвеева исследовано отчасти, хотя сами челобитные были опубликованы в 1776 г. в составе изданной Н. Новиковым «Истории о невинном заточении ближнего боярина Артемона Сергеевича Матвеева» (1-е изд. – СПб., 1776; 2-е изд. – М., 1785). Отмечалось уже, что челобитные Матвеева насыщены цитатами из Ветхого и Нового Завета и сочинений Отцов Церкви (Иоанна Дамаскина, Иоанна Златоуста, Кирилла и Афанасия Александрийских), с помощью которых он описывал свои злоключения, обличал клеветников, доказывал несостоятельность их показаний и добивался от царя справедливого суда [9, c. 111]. Для нас же особый интерес представляют ссылки Матвеева на античных философов и апофегмы прославленных государей древности, а также отсылки к анекдотическим «повестям» из древней истории, собранным Беняшем Будным в его «Апофегматах».
Самое большое количество таких цитат и аллюзий находим в третьей челобитной царю Федору Алексеевичу, посланной в 189 г. (= 1681 г.) из Пустозерского острога «с ссыльным с Самарским офицером с Васильем Пастуховым». Матвеев описывает в ней свое несчастное и ничем не заслуженное положение, не надеясь, как пишет, ни на чью помощь, разве от «всесильнаго и всевысочайшаго Царя царем и Бога, и тебя велиаго и милосердаго государя», которому, «плачевную песнь поюще, паки и паки» бьет челом. Он сравнивает свое положение с положением царя Давида, который словами псалма 85 вопиет к Господу, пытаясь умилостивить его своим плачем:
разгневанную или косную ко услышанию Божию утробу плачем своея тесноты преклоняем, глаголя: « Приклони, Господи, ухо Твое, и услыши мя, яко нищ есмь и убог », во скорби сердца моего, имать бо сие свойство Божие, еже присно в тесноте просящих послушати, от него же образ прием-шии мы, холопи твои, по Бозе убо у высокаго престола вашего Христа Господня подаем обиду и странное разорение наше, оплакиваючи слезно. Аще бо Бог бедных слезами удобь примиряется, то кольми тебе Христу его, по долгу подобает подра-жати Помазателя на царство 1 (с. 131–132) (здесь и далее выделено нами. – Э. М. ).
Цитируя псалмопевца, Матвеев, несомненно, рассчитывает на то, что царь вспомнит и следующий стих псалма: Сохрани душу мою, яко преподобен есмь: спаси раба Твоего, Боже мой, уповающаго на Тя , в котором царь Давид называет себя благочестивым. Далее опальный боярин приводит пример поведения язычника Александра Македонского, который всегда выслушивал обвиняемого, в то время как христианский царь Федор Алексеевич не захотел склонить своего второго уха к оклеветанному вельможе:
В кия степени велехвальный и славный царь Александр Македонский, языческий государь, оружием быв пред многими вои и иных множайших, целомудрый же яко воистинну муж и владычних хранитель заповедей. И вам, христианским великим государем, обычаями своими подобен. Некогда себе вопрошающим, вскую бы, жалобы челобитье послушая, едино ухо затворял, другое отверсто хранил: славен, страшен, удивителен, умилителен, милостив ответ, царь премудрый и ратоборный подаде, рече: «Обидимым сохраняю и всю мою мудрость привожу к познанию благонравия моего, велия бо мудрость, еже благое от злаго распозна-ти». Знает, себе вечныя славы желая, или воздаяния небеснаго чаяше. Мы, холопи твои, христианс-каго ушесе, обидими, у вашего высокаго царскаго престола просим, еже и одержати, надежды не по-губляем, ведуще вас, великаго государя христианс-каго царя памятовать, еже великий архиерарх Ме-летий, папа и патриярх великаго града Александрии 2 и блюститель, и судия селенней престола Константинопольской славы и учитель глаголет: «Име-яй слух обидимым отворен». <...> Сугубаго плача с пролитием слез прошение наше, холопей твоих, вам, великому государю внесохом, двоякий убо нас страх содержащий, глад бо нас страшит смертию, а смерть страшит гладом; вопием к тебе, великому государю царю милосердому (с. 132–133).
Здесь автор челобитной почти дословно цитирует текст «краткой повести» об Александре Македонском из «второго» древнерусского перевода сборника Будного, возникшего, как мы старались показать в другой работе, в 1670-х годах 3. Сравним:
Егда <Александр Македонский> жалобы каковы ( вар. челобитья какова ) послушаше, всегда едино ухо затыкаше. Вопрошен же, вскую бы то творил, сицеву даде причину: «Другое сохраняю староне обвиненой» 4 (л. 128–128 об.).
Одновременно умело контаминирует реплику царя с характеристикой древнего философа Сократа, данной римским поэтом и философом Сенекой Младшим:
Той <Сократ>, яко Сенека пишет, всю свою мудрость приведе к познанию благонравия, иже паки учаше велией мудрости быти, благое от злаго разпознати (л. 9 об.).
Таким образом челобитчик еще сильнее подчеркивает, что настоящая мудрость приводит к познанию благонравия и умению отличать добро от зла. Обе аллюзии следует признать довольно смелыми, учитывая трагическое положение «царского холопа».
Расшифровка аллюзий предполагает, как известно, наличие у автора и читателя общего круга чтения. Матвеев мог рассчитывать на знание «Апофегмат» адресатом – учеником Симеона Полоцкого, в библиотеке которого было одно из изданий «Кратких витиеватых повестей» на польском языке [10, S. 41]. Признавая, что царь – Божий помазанник, что он волен всех наказывать и миловать, Матвеев просит его следовать примеру Александра Македонского, которому приписал черты философа Сократа.
В следующей части челобитной Матвеев приводит рассказы о римском цесаре Тите Веспасиане (ок. 40–81), прославившемся своим милосердием. Особенно выразительны слова Тита, считавшего погубленным день, в который он не оказал милости ни одному человеку. Процитируем этот фрагмент челобит- ной в сопоставлении с текстом «Апофегмат», чтобы убедиться в справедливости нашего предположения.
Во «втором» древнерусском переводе «Книги Апофегмат» читаем:
-
<Т>ит Веспасиан не похваляющым ему того приятелем, яко не отрицаше ни единому, о чесом-либо кто моляше, но дати обещаваше абие, аще со убытком сокровищ своих, тако им рече: «Инако ми творити не достоит, ибо не лепо, дабы, сый кто у цесаря, имел от него печалным лицем отити».
-
<Т>ой же, воспомянувше единою при вечере, яко того дне ничтоже никомуже дарова, тако рече: «Всуе день нынешний погубих, яко никому-же ничтоже даровах» (л. 120–120 об.).
Матвеев же пишет:
Но буди вам, великому государю, тако тяжко миловати, яко чтут в историях римских о Тите цесаре, ему же тако тяжко бысть не миловати, яко познавши день един, егоже не сущу просяще, кому не сотвори милости, солнцу уже познавшу запад свой, восплака и рече: «Всю мою мзду, на нюже вся лета моя трудился, единым днем возгубил, не сотворих бо милости никому же, воспоминаю себе с высоты; несть бо милости не сотворшему милости». Се милосердый и милостивый цесарь, зане никтоже проси и яко не сотвори милости тужаше, и всю жизнь свою ни во что же почитая. А мы, холопи твои, шестое лето непрестанно просим, а милости не приемлем. За что прогневася ваше, християнскаго царя, сердце на нас, холопей твоих, и от очес ваших отвержены, яко праведно мудрых речение на мне, холопе твоем, сбысться: старый холоп, яко старый пес, прочь с двора или под лавку? (с. 139–140).
В последнем вопросе звучит горечь бывшего слуги (холопа на языке XVII в.), который на старости лет лишился царской милости. Этот вопрос перекликается с апофегмой об учителе Перикла – Анаксагоре, которого малоразсудный царь перестал почитать из-за его старости. Старый слуга яко старый пес – так прокомментировал поведение Перикла Беняш Будный. Матвеев же почти дословно цитирует мудрых речение , расширяя и дополняя пословицу уточняющим прочь с двора или под лавку 5.
И это еще не все отсылки к тексту «второго» древнерусского перевода «Апофегмат». Рассказав о своих многолетних мытарствах, Матвеев сетует на недоброжелателей, особо подчеркивая, что труднее всего смириться с изменой некогда близких ему людей:
Сбысться, великий государь, мудрых писание в нынешнее время на мне, холопе твоем. Вопрошен некто от некоего, в чем бы опаство паче име-ти . Отвеща ему тако: «В приятельской ненависти, а во лжи неприятельской» . А мы, холопи твои, видя и слыша о своем невинном конечном разорении и расхищении, слезами обливаемся с червем моим, Богу благодарение возсылаем до исходу душ наших, яко вещи наши конец имяху добр. Господь даде, Господь и взя (с. 195–196).
Мудрые, на авторитет которых ссылается Матвеев, – это в данном случае Диоген. Во «втором» переводе «Апофегмат» читаем:
Вопрошен же, в чесом бы опаство паче име-ти, отвеща : «В ненависти приятелской, а во лжи неприятелской» (л. 61 об.).
Нетрудно заметить, что челобитная и здесь почти дословно воспроизводит текст «второго» древнерусского перевода «Апофегмат».
Тема домашних врагов появляется также в первой челобитной Матвеева патриарху Иоакиму, в которой он пишет о фальшивых приятелях, от каких ни един или не мнози от древних пострадаша: будут бо, рече, врази человеку домашнии его (с. 212). Здесь можно усмотреть явную связь со словами Боэция: Никий же недуг несть тако вреди-телен, яко враг домашний (л. 112).
И.М. Кудрявцев справедливо отметил, что Матвеев «обладал незаурядным талантом и был очень начитанным и в исторической, и в богословской литературе» [6]. Высоко оценивал литературные способности боярина А.С. Демин, который восхищался описанием буйного пьянства одного из гуляк [4, c. 124], то есть датского немчина , оклеветавшего Матвеева.
«Эпистолярная техника, – как справедливо заметил В.В. Калугин, – предполагала имитацию диалога. Начиная с античных теорий стиля, послание понималось “как бы одна из сторон в диалоге” и “письменная беседа отсутствующего с отсутствующим”. В этом разговоре отправитель был рассказчиком, а адресат слушателем» [5, c. 141]. Наши наблюдения показывают, что Матвеев знал и виртуозно использовал в одностороннем дискурсе с царем Федором Алексеевичем и дру- гими адресатами челобитных также текст «второго» древнерусского перевода «Кратких витиеватых повестей» Б. Будного. Ему, как известно, разрешили взять с собой часть книг и рукописей, среди которых была, как мы полагаем, и недавно переведенная с польского «Книга Апофегмат», в которой он искал и находил ответы на трудные жизненные вопросы. К сожалению, судьба Матвеева не подтверждает лестного мнения современного историка А.П. Богданова о судебной реформе Федора Алексеевича. Трудно согласиться с мнением ученого, что царь, который не захотел выслушать обвиняемого, сумел «на время установить “в судах правосудство”» [3]. А надежда Матвеева на то, что царь поймет тонкий намек, тоже оказалась обманчивой. Хотя не исключено, что челобитных Матвеева, благодаря усилиям его недругов, светлые очи Федора Алексеевича вовсе не увидели.
Список литературы К изучению эпистолярного стиля А. С. Матвеева (челобитные ссыльного боярина и "Апофегматы" Беняша Будного)
- Белоброва, О. А. Матвеев Артемон Сергеевич/О. А. Белоброва//Словарь книжников и книжности Древней Руси. -СПб.: Дмитрий Буланин, 1993. -Вып. 3 (XVII в.), ч. 2. -С. 341-343.
- Белоброва, О. А. Об иноязычных источниках «Титулярника» 1670-х годов/О. А. Белоброва//Res traductorica. Перевод и сравнительное изучение литератур. -СПб.: Наука, 2000. -С. 81-86.
- Богданов, А. П. Несостоявшийся Император Федор Алексеевич/А. П. Богданов. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://royallib.com/book/bogdanov_andrey/nesostoyavshiysya_imperator_fedor_alekseevich.html. -Загл. с экрана.
- Демин, А. С. О художественности древнерусской литературы/А. С. Демин. -М.: Языки русской культуры, 1998. -838 с.
- Калугин, В. В. Андрей Курбский и Иван Грозный (Теоретические взгляды и литературная техника древнерусского писателя)/В. В. Калугин. -М.: Языки русской культуры, 1998. -416 с.
- Кудрявцев, И. М. «Издательская» деятельность посольского приказа (к истории русской рукописной книги во второй половине XVII века)/И. М. Кудрявцев//Книга. Исследования и материалы. -1963. -Сб. 8. -С. 179-244. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://www.raruss.ru/rus-christian-painting/3913-kudryavtsev-posolsky-prikaz-edition.html (дата обращения: 26.03.2016). -Загл. с экрана.
- «Око всей великой России». Об истории русской дипломатической службы XVI-XVII веков/под ред. Е. В. Чистяковой, сост. Н. М. Рогожин. -М.: Междунар. отношения, 1989. -240 с. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://rikonti-khalsivar.narod.ru/Oko.htm (дат а обращения: 19.03.2016). -Загл. с экрана.
- Перова, О. А. К истории русско-польских дипломатических отношений середины XVII в.: посольства стольника А.С. Матвеева к литовскому гетману В.К. Гонсевскому 1656 и 1657 гг./О. А. Перова//Проблемы истории России. Вып. 2: Опыт государственного строительства XV-XX вв. -Екатеринбург: Волот, 1998. -С. 20-33.
- Романова, О. А. Частная жизнь ближнего боярина А.С. Матвеева/О. А. Романова//Проблемы истории России. Вып. 6: От Средневековья к современности. -Екатеринбург: Волот, 2005. -С. 107-126.
- Hippisley, A. Simeon Polockij’s library: а сatalogue/A. Hippisley, E. Lukjanova. -Köln; Weimar; Wien: Böhlau, 2005. -226 S.