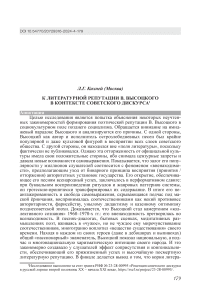К литературной репутации В. Высоцкого в контексте советского дискурса
Автор: Кихней Л.Г.
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Русская литература и литература народов России
Статья в выпуске: 4 (71), 2024 года.
Бесплатный доступ
Целью исследования является попытка объяснения некоторых неучтенных закономерностей формирования поэтической репутации В. Высоцкого в социокультурном поле позднего социализма. Обращается внимание на имиджевый парадокс Высоцкого и анализируются его причины. С одной стороны, Высоцкий как автор и исполнитель острозлободневных песен был крайне популярной и даже культовой фигурой в восприятии всех слоев советского общества. С другой стороны, он находился вне «поля литературы», поскольку фактически не публиковался. Однако эта отторженность от официальной культуры имела свои положительные стороны, ибо снимала цензурные запреты и давала новые возможности самовыражения. Показывается, что залог его популярности у миллионов слушателей соотносится с феноменом «вненаходимости», предполагающим уход от бинарного принципа восприятия (принятия / отторжения) авторитетных установок государства. Его открытие, обеспечивающее его песням всенародный успех, заключалось в перформативном сдвиге: при буквальном воспроизведении ритуалов и жанровых паттернов системы, он гротескно-иронически трансформировал их содержание. В итоге его неангажированность и свобода самовыражения, скрывающаяся подчас под маской ёрничания, воспринималась соотечественниками как некий противовес авторитарности, фарисейству, унылому дидактизму и казенному оптимизму позднесоветской эпохи. Доказывается, что Высоцкий стал камертоном «коллективного сознания» 1960-1970-х гг.: его вненаходимость претворилась во всенаходимость. В песнях-диалогах, бытовых сценках, медитативных размышлениях поэт, вживаясь в «чужое», но не чуждое ему мирочувствование соотечественников, многогранно воплотил «вещество существования» своего времени. Находя в каждом из своих героев (даже в дебоширах и выпивохах) общий «пассионарный» знаменатель, Высоцкий показал национальную, а подчас и многонациональную харизматическую интенцию своего народа. И это закономерно создавало у слушателей эффект соприсутствия и конгениальности, обеспечивающий его прижизненный успех и высочайшую посмертную литературную репутацию. В финале делается вывод о том, что корни литературной репутации таятся в текстовых и коммуникативно-резонансных стратегиях писателя, без которых социологический аспект не работает.
В. высоцкий, литературная репутация, советское и национальное, вненаходимость, советский дискурс, песенное творчество
Короткий адрес: https://sciup.org/149147186
IDR: 149147186 | DOI: 10.54770/20729316-2024-4-179
Текст научной статьи К литературной репутации В. Высоцкого в контексте советского дискурса
The aim of the study is to establish some unaccounted-for patterns of formation of Vladimir Vysotsky’s poetic reputation in the socio-cultural field of late socialism. Attention is drawn to Vysotsky’s image paradox and its causes are analyzed. On the one hand, Vysotsky, as an author and performer of topical songs, was an extremely popular and even cult figure in the perception of all the Soviet community`s strata. On the other hand, he was outside the “field of literature”, as he was not actually published. However, this detachment from official culture had its positive sides, because it lifted censorship prohibitions and gave new opportunities for self-expression. It is shown that the key to his nationwide success among millions of listeners correlates with the phenomenon of “vnenakhodimost’ ”, which implies a departure from the binary principle of perception (acceptance / rejection) of authoritarian attitudes of the state. His discovery, which ensured his national success, consisted in a performative shift: by literally reproducing the rituals and genre patterns of the system, he grotesquely and ironically transformed their content. His absolute truthfulness and freedom of expression, sometimes hiding under the mask of arrogance, was perceived by compatriots as a kind of counterweight to authoritarianism, pharisaism, dull didacticism and official optimism of the stagnation era. As a result, it is proved that he became the tuning fork of the Soviet era’s “collective consciousness”: his vnenakhodimost’ turned into universal vsenakhodimost’. In dialogue songs, everyday scenes, meditative reflections, the poet, getting used to the “alien”, but not extraneous to him, worldview of his compatriots, comprehensively embodied the “substance of existence” of his time. Finding in each of his heroes (even in the most recent brawlers and drunks) a common “passionate” denominator, Vysotsky showed the national, and sometimes multinational charismatic intention of his people. And this naturally created the effect of co-presence and congeniality among the listeners, ensuring his highest posthumous literary reputation. In the final, it is concluded that the roots of literary reputation lie in textual strategies, without which the sociological aspect does not work.
Key word
s
-
V. Vysotsky; literary reputation; Soviet and national non-availability; Soviet discourse; songwriting.
Владимир Высоцкий – одна из знаковых фигур русской литературы и культуры второй половины XX в. Его творчество, будучи символом свободомыслия и искренности, оказало значительное влияние на советскую и россий- скую культуру. Однако официальный престиж Высоцкий обрел только в годы перестройки, когда были сняты многие цензурные запреты.
Проблема репутации Высоцкого в советском пространстве подробно не изучалась, хотя есть ряд работ, создающих основу для подобного рассмотрения. Это исследования и материалы, в которых прослеживается рецепция его творчества в советской и постсоветской прессе (см.: [Томенчук 1993], [Бродская 2008; 2011], [Бродская, Нестеров, 2010], [Санкин 2014]). А.В. Федоровым собраны и отчасти прокомментированы прижизненные и посмертные публикации о Высоцком [см.: Высоцкий в советской прессе 1992]. В многочисленных мемуарах, а также в ряде монографий и статей прямо или косвенно затрагиваются проблемы общественного восприятия поэта в социокультурном контексте, попытки формирования биографического мифа (см.: [Новиков 1991], [Бакин 2011], [Скобелев, Шаулов 2012], [Доманский 2020], [Страшнов 1999] и мн. др.).
Тем не менее проблема репутации Высоцкого в системе позднего социализма о стается не вполне проясненной, изобилующей разноречивыми, нередко полярными трактовками его творческого образа. Так, В. Новиков в книге «В Союзе писателей не состоял…» отстаивал его статус большого советского поэта [Новиков 1991]. И. Чулков же, напротив, утверждал, что Высоцкий « не был советским поэтом в привычном для нас смысле» [Чулков 1991] (курсив здесь и далее мой – Л.К .).
Попробуем предложить свое видение этой проблемы. Напомним, что под литературной репутацией принято понимать представления о писателе и его творчестве, которые сложились в рамках социокультурной системы, «единое мнение, устанавливающееся в мире искусства и меняющееся с течением времени» [Becker 1984, 63]. Репутация – лабильный, а не статичный феномен, коррелирующий с этическим, эстетическим, ценностным, культурным и прочими аспектами бытия [Розанов 1990, 14–16]: трансформация картины мира влечет за собой изменение отношения общественности к литератору.
Формирование литературной репутации предполагает ряд «агентов влияния» [Рейтблат 2001, 51–52]: помимо литературной политики на репутацию писателя также влияют творческие сообщества, к которым принадлежит автор, авторитетные деятели культуры, поддерживающие или осуждающие автора, читатели, издатели, средства массовой информации.
Исследователи, в частности М.В. Селезнев, среди факторов, формирующих писательскую репутацию, особенно акцентируют влияние «внелитератур-ного поля» (идеологию, отношение общества и власти к литературе в целом и пр.) [Селезнев 2008, 9, 13]. О зависимом, более того – подчиненном положении литературы по отношению к политике, власти и экономике писал и французский социолог П. Бурдье [Бурдье 2000, 42].
Итак, можно ли говорить о литературной репутации Владимира Высоцкого в советские времена, когда он был вне «поля литературы»?
На первый взгляд, нет, ведь в СССР обрести писательский статус – в нашем случае, статус поэта, – мог только автор, имеющий членство в Союзе писателей, благодаря опубликованным в государственных издательствах сборникам стихов; или, на худой конец, регулярно печатающий свои стихи в статусных («толстых») журналах. В подобных изданиях у Высоцкого при жизни было опубликовано, как известно, всего два стихотворения, при том что творческое наследие поэта, в оценке авторитетного текстолога А.Е. Крылова, насчитывает около 420–430 песен .
Не было у него и поддержки собратьев по литературному цеху, тех же «эстрадников», которым не приходило в голову равнять его с собой. Не было и морального подспорья непререкаемых отечественных авторитетов типа А. Ахматовой или зарубежных известных писателей, которое было, к примеру, у нонконформиста И. Бродского.
Не было у Высоцкого и поддержки СМИ. Здесь, возможно, нужен более развернутый комментарий. Высоцкий во второй половине 1960-х – начале 70-х гг. воспринимался в большей степени как актер. Те изредка появлявшиеся упоминания о нем в СМИ касались, как показали Е.В. Бродская и А.В. Федоров, его участия в спектаклях и актерской игры в фильмах. Исключением стала статья Н. Крымовой, где о Высоцком впервые говорилось не только как об актере, но и как о поющем поэте (да и то статья была посвящена помимо него еще С. Юрскому и В. Рецептеру) [Крымова 1968].
Примечательно, что власть не могла допустить неотслеживаемого распространения его песен в народе и несанкционированного роста его популярности, явно возросшей к концу 1960-х гг. В 1968 г. официальной прессой была организована кампания травли Высоцкого как поэта-барда. В ходе этой кампании против Высоцкого были выдвинуты обвинения в антисоветской пропаганде, правда, авторы перевирали факты и приписывали ему чужие стихи [Бродская 2011, 6, 7]. Уместно также вспомнить и о других нападках на Высоцкого в прессе, например, в 1977 г. после выхода альманаха «Метрополь» С. Куняев и его сподвижники обвиняли авторов альманаха (одним из которых был Высоцкий) в «антирусскости» и в «антигосударственности» [см. подробнее: Санкин 2014].
Впрочем, эти кампании как-то быстро сошли на нет, нанеся поэту лишь моральный ущерб. Высоцкого не осудили, не посадили, не выслали из страны; даже выступать с концертами не запретили. Более того, в те же годы государственная (!) фирма «Мелодия» выпускает 5 грампластинок с его песнями из фильмов. Власти ему не препятствуют и с выездом за рубеж (чему, безусловно, способствовал тот факт, что его супруга, Марина Влади, состояла в Компартии Франции). Более того: Высоцкий записывает в Париже альбом своих песен, то есть, по сути дела, несанкционированно публикует свои произведения в капиталистическом государстве.
Двойственность и даже некоторая амбивалентность его положения в культурном поле позднесоветского периода давно отмечена. Перейдем к причинам его экстраординарной популярности… Высоцкому не нужны были ни огромные стадионы (как для поэтов-эстрадников), ни самиздат (как для литературной группы «Московское время»), ни тамиздат (как для «ахматовских сирот»). Ему вообще не нужен был станок Гуттенберга. Благодаря быстрому распространению магнитофонной культуры песни Высоцкого, спетые на квартир-никах или в небольших концертных залах, распространялись в 1960–1970-х – многотысячными, а после его смерти – в начале 80-х – предположительно – и миллионными тиражами. (Оговорка: здесь, разумеется, возникает вопрос о верификации: однако при подсчетах надо считать не количество магнитофонов на душу населения и не количество проданных барыгами кассет: считать надо тех, кто слушал… В моем родном городе Владивостоке уже во второй половине 1960-х гг. Высоцкий гремел на весь двор, на всю улицу, на весь район… Его слышали буквально все, хотя, разумеется, и не все прицельно слушали…).
Важная составляющая огромной популярности Высоцкого, как уже не раз отмечалось, заключалась в том, что стихотворение перестало быть только словесным текстом. Оно стало предназначаться для слухового, а подчас и зрительского восприятия как некая полулирическая, полумузыкальная, полу-драматическая пьеса, разыгрываемая на глазах зрителей. Не случайно у современных литературоведов возникают мысли о типологических схождениях и генеалогических корнях Высоцкого, уводящих во времена трубадуров, миннезингеров и отечественных скоморохов [Скобелев, Шаулов 2012], [Кихней, Сафарова 1999].
Правда, мало кто соотносил эту популярность с феноменом литературной репутации. Литераторы и литературоведы 1960–1970-х гг. не принимали Высоцкого как поэта всерьез. В восприятии российской интеллигенции, как и некоторой части советского истеблишмента, Высоцкий пользовался репутацией ведущего актера суперпопулярного фрондерского Театра на Таганке, а также неплохого актера кино, у которого хобби – песни, зачастую стилизованные под блатные баллады или бытовые сценки. Он возражал: «Если на две чаши весов бросить мою работу: на одну – театр, кино, телевидение, мои выступления, а на другую – только работу над песнями, то, я вас уверяю, песня перевесит!» [Высоцкий 1977].
Итак, магнитофонная культура, дающая возможность бесцензурного распространения песен по частным и одновременно массовым каналам, позволяющая поэту не ограничивать себя в воплощении собственных мыслей и чувств, становится новым «агентом влияния», формирующим его творческую репутацию и, казалось бы, объясняет секрет его высокой популярности.
Но дело далеко не только в этом. Ведь были и другие поэты-барды, также в той или иной степени востребованные публикой – почитаемый Высоцким Б. Окуджава, А. Галич, Ю. Визбор, Ю. Кукин, Н. Матвеева и мн. др.
Уникальность Высоцкого среди других авторов-исполнителей определялась двумя моментами: во-первых, грандиозным диапазоном охвата массовой аудитории: во-вторых, спецификой воздействия на нее.
Важно сразу же отметить, что при весьма критическом отношении к застойным явлениям позднесоциалистической системы Высоцкий никогда не склоняется к саркастическому обличению и высмеиванию своих соотечественников. Ему не приходило в голову создание обобщенного негативного образа «Hоmо soveticus», укорененного в западном академическом сознании [см.: Geller 1988] и выведенного, например, в романной прозе А. Зиновьева.
Его песни были близки и интересны и поклонникам А. Галича и Ю. Алешковского, и почитателям А. Твардовского и Б. Слуцкого, и фанатам русского шансона, и приверженцам С. Есенина и О. Мандельштама. Высоцкий как свой воспринимался «западниками» и «почвенниками» (за исключением оголтелых националистов типа С. Куняева), оппозиционерами и патриотами, деклассированными элементами и интеллигентской элитой . В этом плане любопытны свидетельства, например, К. Шахназарова, о симпатии к нему и любви к его песням Ю. Андропова и сотрудников международного отдела ЦК [Ванденко 2012], что, впрочем, отразилось в его песне «Прошла пора вступлений и прелюдий» (1973): «Меня к себе зовут большие люди – / Чтоб я им пел “Охоту на волков”» [Высоцкий 1999, 304].
Обширный пафосный, мотивно-тематический, аксиологический диапазон, ипостазированность и разноликость его лирического субъекта, тонкое чувствование адресата, а главное – «принципиальная и неистребимая “нео-фициальность”» [Бахтин 1990, 6] песен Высоцкого находила живой отклик в многосложном миллионном сообществе его слушателей, каждый из которых обретал для себя те или иные способы самоидентификации с автором или лирическим субъектом. Мемуаристы описывают множество случаев, когда слушатели были убеждены, что поэт воевал, служил, сидел и т.д.
В его песнях находили отражение зачатки многих идей и представлений, которые бродили в советском обществе. Обширный кластер его лирических персонажей позволяет составить подробную карту бытия советского человека. Фигурируют представители почти всех профессий: кадровые военные, шахтеры, сталевары, кузнецы, шоферы, геологи, старатели, археологи, летчики, физики, студенты, профессора, колхозники, спортсмены... Не избегает Высоцкий и изгоев общества: в ряде песен, особенно ранних, он говорит от лица алкоголиков, хулиганов, заключенных и пр.
Однако гетерогенная образная парадигма лирики Высоцкого - не самоцель, и не репутационные уловки (хотя известны случаи заказа ему песен того или иного профессионального сообщества, например, шахтерского). Широта и пестрота персонажного ряда демонстрирует многослойность сознания человека «эпохи москвошвея» в ее позднесоциалистическом изводе. Но главное: он показал, что в каждом его ролевом герое есть выход к национальному / советскому архетипу.
Прибегая к сказовым приемам, поэт выражает саму суть каждого из описываемых им персонажей, его логику мышления: он не надевает «маску», а, вживаясь в образ, рассказывает о его переживаниях как о своих. А это влечет за собой вхождение в резонанс, снятие психологических преград между поэтом-певцом и его огромной, поистине всенародной, аудиторией. За ролевыми героями Высоцкого кроется полифония коллективного сознания.
Оговоримся, что общего коллективного сознания в чистом виде не существует. В частности, позднесоветское общество состояло из множества субсоциальных, субнациональных и субкультурных сообществ, «публик» (в терминологии А. Юрчака), впрочем, друг от друга не слишком отгороженных, поскольку при внешнем соблюдении советских ритуалов внутри каждого из этих сообществ можно видеть ряд похожих способов игнорирования или обхождения идеологических препон и рогатин системы.
Перформативный поворот, ставший основой песенного творчества Высоцкого и обеспечивший ему единодушную поддержку сотен тысяч слушателей, заключался в том, что он, словно камертон, умел улавливать общее настроение времени, настраиваться на общий тон и воспроизводить механизмы коллективного сознания, более того, как бы суггестивно влиять, «захватывать» его.
Как поэт это делал? Прежде всего, он отказался от бинарных стереотипов, при которых отношения в обществе сводятся к конфронтации народа (интеллигенции) и власти; к подчинению или подавлению; к поддержке официальных установок или нонконформистскому сопротивлению им.
Используя прием жанровой травестии, он воспроизводил официальные установки власти или некие стереотипные представления, но при этом гротескно-иронически сдвигал их смысл, тем самым воссоздавая новые пространства свободы, которые антрополог Алексей Юрчак назвал пространствами «внена-ходимости» [Юрчак 2014, 26, 262].
Так, «Милицейский протокол» (1971), как следует из заглавия, отсылает к официальному документу об административном правонарушении; в «Товарищах ученых» (1972) обыграна добровольно-принудительная шефская помощь городских предприятий, включая академические учреждения, колхозникам; а в
«Лекции о международном положении, прочитанной человеком, посаженным на 15 суток за мелкое хулиганство своим сокамерникам» (1979) имитируется буква и дух политинформаций, обязательных в рамках идеологического воспитания советского народа.
Однако внутри подобных песен мы можем наблюдать удивительный эффект полифонической модальности. Так, в «Лекции о международном положении…», с одной стороны, показаны «имперские» амбиции СССР (ср.: «…Но как мы место шаха проворонили?! / Нам этого потомки не простят» [Высоцкий 1999, 466]). Но, с другой стороны, в этой песне пусть гротескно, пусть иронически, но воплощается мысль о «всемирной отзывчивости» русского человека, отсылающая к известному суждению Достоевского о Пушкине как о высшем проявлении национального самосознания [Достоевский 1995, 418]. Причем у Высоцкого речь идет не о национальной (русской), а уже о советской идентичности. Ср.: «Шах расписался в полном неумении – / Вот тут его возьми и замени! / Где взять? У нас любой второй в Туркмении – / Аятола и даже Хомейни» [Высоцкий 1999, 466].
Карнавальная игра со сменой национальной идентичности присутствует в песне «Мишка Шифман» (1972). В ней обыгрывается проблема пресловутой «пятой графы», то есть указания в паспорте национальности, чреватого, в частности, для евреев в позднесоветскую эпоху рядом запретов и «квот». Ходил даже анекдот: «Меняю пятую графу на две судимости».
Сюжет этой лирической пьески отражает реалии конца 1960-х – начала 1970-х гг., когда евреям разрешили выезд в Израиль. Сюжетная развязка парадоксальна: Мише Шифману, у которого «евреи сплошь в каждом поколении», в визе отказали, а персонажу-рассказчику, у которого «только русские в родне» [Высоцкий 1999, 313], дали. Зеркальная перевернутость ситуации высвечивает два момента: наличие скрытых напряжений и идеологических запретов в обществе (еще свежа память, что за «пятую графу» в начале 1950-х могли и посадить) и одновременно – стереотипов бытового (в том числе национального) мышления. Ср.: «Мишку мучает вопрос: Кто здесь враг таинственный? <…> Говорит, что за графу / Не пустили пятую» [Высоцкий 1999, 314].
Ироническая идентификация (которая в просторечии именовалась стёбом) становилась авторским приемом выстраивания взаимоотношений между индивидом и системой, отображая порой абсурдность советской идеологии, проникающей в ткань советской повседневности. И вместе с тем указанный подход не означал жесткого отчуждения лирического субъекта от советских постулатов: это и давало вышеописанный полифонический эффект – поддержки и одновременно остранения позднесоветского мирочувствования (по В. Шкловскому).
То есть здесь также стоит говорить об иронии «вненаходимости», старающейся уйти от бинарного деления идеологической системы позднего социализма на анти- и просоветскую. Это приводит подчас к объединению в одном высказывании совмещения разновекторных идеологических стереотипов, что придает рассуждению персонажа комически-амбивалентный смысл. Ср. рассуждения персонажа на таможенном досмотре: «Мы все-таки мудреем год от года – / Распятья нам самим теперь нужны, – / Они – богатство нашего народа, – / Хотя и пережиток старины» [Высоцкий 1999, 387]. Цитатный, лозунговый смысл официального языка, благодаря подобным сцеплениям, оказывается смещен и становится поливалентной характеристикой персонажа и социоисторической ситуации, в которой тот пребывает.
Авторская позиция вненаходимости ярко проявляется в песнях военной тематики, где поэт применяет двойную оптику изображения военных ситуаций, сочетая ценности советского патриотизма с критическим, альтернативным взглядом на войну.
Так, в песнях, посвященных героизму советских воинов («Братские могилы» (1965), «Аисты» (1967), «Он не вернулся из боя…» (1971), «Мы вращаем землю…» (1972) и др.) он утверждает высокое значение памяти о погибших, исполнения воинского долга, товарищеской взаимовыручки – качеств, которые являются важными составляющими советского патриотизма.
В то же время в таких песнях, как «Штрафные батальоны» (1963), «Тот, который не стрелял» (1972), он показывает контрасты и моральные дилеммы военного времени, предлагая слушателям более сложное и многогранное понимание моделей поведения людей на Великой Отечественной войне. Он мастерски воссоздает паттерны экзистенциального мирочувствования тех, кто видел оборотную, непарадную сторону, изнанку войны [Гавриков 2020]. Ср. в «Штрафных батальонах»: «Ведь мы ж не просто так – мы штрафники, / Нам не писать: “…считайте коммунистом” <…> Вот шесть ноль-ноль – и вот сейчас обстрел, – / Ну, бог войны, давай без передышки! / Всего лишь час до самых главных дел: / Кому – до ордена, а большинству – до “вышки”» [Высоцкий 1999, 51–52].
И здесь мы подходим к одному из важнейших внутренних факторов, обеспечивающих и прижизненный, и посмертный репутационный ренессанс его песен. Практически во всех его песнях – ранних и поздних, бытовых и притчевых, полублатных и военных, спортивных и туристских, шуточных и философских – прослеживается одна и та же архетипическая установка – идти по линии «наибольшего сопротивления» (Н. Гумилев). Эта установка кристаллизуется в метасюжете песен Высоцкого как выход за пределы дозволенного, отказ от моделей шаблонного поведения, поиск своего пути (см.: «Тот, кто раньше с нею был» (1962), «Песня о друге» (1966), «Здесь вам не равнина» (1966), «Скалолазка» (1966), «Охота на волков» (1968), «Бег иноходца» (1970), «Разведка боем» (1970), «Чужая колея» (1973), «Погоня» (1974), «Две судьбы» (1976), «Райские яблоки» (1978) и мн. др.).
При этом поэт показывает разные пути выхода из тупика и преодоления социальных стереотипов, вплоть до полного «бездействия», которое оказывается самым эффективным действием в стиле дао (ср.: «Песня о сентиментальном боксере», 1966 или «Тот, который не стрелял», 1972), или до парадоксального зазеркаливания действий противника, как в «Притче о Правде и Лжи» (1977).
Однако в большинстве сюжетов победа достигается посредством невероятных усилий, действий «на разрыв аорты», отчаянного сопротивления обстоятельствам: «Рвусь из сил – и из всех сухожилий, / Но сегодня не так, как вчера: / Обложили меня, обложили, – / Но остались ни с чем егеря» [Высоцкий 1999, 454]. И этот пассионарный вектор его песен, усиленный к тому же интонационно-эмоциональной музыкальной волной, обладал огромной духоподъемной силой.
В итоге, позиция «вненаходимости» в творчестве Высоцкого преобразовалась в позицию «всенаходимости», что позволило поэту войти в резонанс с огромной аудиторией, для которой собственно создавались, исполнялись и разыгрывались его песни-новеллы, песни-диалоги, песни-сценки. Он не только мастерски пользовался словами и выражениями, характерными для советско- го повседневного общения и уже как бы «населенными чужими социальными интенциями», но и заставил их служить «своим новым интенциям» [Бахтин 1975, 112]: с одной стороны, – гротескному обыгрыванию рутинных явлений и идеологических шаблонов позднесоветского периода, с другой стороны, – вычленению и обнажению того живого, родного, неистребимого, что жило в советском народе.
Майкл Уорнер писал, что публика – это не некая социальная, географическая или этнографическая общность, публика существует лишь потому, «что к ней обращаются» [Warner 2002, 50]. И в случае Высоцкого мы сталкиваемся с уникальной ситуацией, когда его песни задевают и окликают буквально каждого. Выстраивая отношение с публикой как разговор со всеми и с каждым (отсюда проистекает «тотальный» диалогизм его песен), поэт буквально покоряет публичный дискурс.
При этом Высоцкий был не только «отражателем» общественного сознания эпохи, но и генератором неких глубинных порывов, харизматических импульсов, пассионарных моделей поведения.
Он действительно совершил гигантский перформативный сдвиг, который стал заметен только после его смерти, а точнее, – в постсоветскую эпоху 1990– 2000-х, когда интенсивно издавались его сочинения, публиковались десятки монографий и сотни статей, проводились международные конференции, защищались диссертации… В литературоведении возникла отдельная отрасль – высоцковедение; открылся музей Высоцкого (1992); в школьные программы и учебники включили его стихи.
В общекультурный обиход вошло осознание, что Высоцкий был не просто актером Таганки, дилетантски исполнявшим «полублатные» песни, а всенародно любимым поэтом, отразившим в своей песенной лирике «энциклопедию русской жизни» позднесоветского периода, ментальную ауру русского человека, в том числе в ее «советском» изводе.
«Всемирная отзывчивость» Высоцкого отвечала духовным запросам современников, причем не только поверхностным ожиданиям, но и глубинным чаяниям. Постижение сути происходящего; способность сопереживания ближнему, то, что В.Г. Белинский назвал «лелеющей душу гуманностью»; отточенность формы в виртуозном соединении с низовой речевой стихией и с корневыми традициями русской словесности, – все это по праву обеспечило ему репутацию великого национального поэта.
Наши наблюдения заставляют скорректировать некоторые постулаты теории литературной репутации. В новых социокультурных и технологических условиях оказались не столь важны прежние «агенты» (причастность к тому или иному литературному объединению, поддержка СМИ, литературная политика и пр.). Думается, что при анализе литературной репутации акцент следует перенести на специфику диалога поэта и публики, в нашем случае не столько читающей, сколько слушающей. То есть при анализе писательских репутаций в поле зрения должны находиться не только социологические, по большей части внешние, факторы (тиражи, отзывы критики, PR и пр.), но и коммуникативно-суггестивные и перформативные авторские стратегии, связанные с коренными установками творчества писателя, отвечающими (или не отвечающими) злободневным и сущностным запросам читателей. Все остальное – вторично.
Список литературы К литературной репутации В. Высоцкого в контексте советского дискурса
- Бакин В.В. Владимир Высоцкий без мифов и легенд. М.: Эксмо, Алгоритм-Из-дат, 2011. 686 с.
- Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М: Художественная литература, 1975. 504 с.
- Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.: Художественная литература. 1990. 543 с.
- Бродская Е.В, Нестеров А.Н. Владимир Высоцкий: трудно быть классиком (В. Высоцкий в постсоветской журналистике) // Новое литературное обозрение. 2008. № 6. С. 313-333.
- Бродская Е.В. «Язык агрессии» в публикациях о В. Высоцком 1968 года // Агрессия: интерпретация культурных кодов: материалы конференции. Саратов, СПб.: ЛИСКА, 2010. С. 125-140.
- Бродская Е. В. Рецепция творчества В. С. Высоцкого в советской прессе 1960-х -1980-х гг.: автореф. дис.... к. филол. н.: 10.01.10. М., 2011. 24 с.
- Бурдье П. Поле литературы / пер. с фр. М. Гронаса // Новое литературное обозрение. 2000. № 45. С. 22-87.
- Ванденко А. «Везунчик» (интервью с режиссером Кареном Шахназаровым) // Итоги. 2012. № 27. URL: http://www.itogi.ru/arts-spetzproekt/2012/27/179643.html (дата обращения: 03.08.2024).
- Высоцкий в советской прессе / сост. А.В. Федоров. СПб.: Каравелла, 1995. 206 с.
- Высоцкий В.С. «Я занимаюсь авторской песней. » / Владимир Высоцкий Монологи. 1977 // URL: http://vysotskiy-lit.ru/vysotskiy/monologi/monologi.htm (дата обращения: 01.08.2024).
- Высоцкий В.С. Собрание сочинений: в 2 т. Т. 1. М.: Осирис, 1999. 527 с.
- Гавриков В.А. «Непарадная» сторона Великой Отечественной Войны у Владимира Высоцкого // Вестник Московского университета. Серия 9. Филология. 2020. № 6. С. 21-29.
- Доманский Ю.В. Олимпиада-80 и Владимир Высоцкий // Labyrinth. Теории и практики культуры. 2020. № 3. С. 6-24.
- Достоевский Ф.М. Собрание сочинений: в 15 т. Т. 14. СПб.: Наука, 1995. 783 с.
- Кихней Л.Г., Сафарова Т.В. К вопросу о фольклорных традициях в творчестве Владимира Высоцкого // Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Вып. III. Т. 1. / сост. А.Е. Крылов и В.Ф. Щербакова. М.: ГКЦМ В.С. Высоцкого, 1999. С. 72-82.
- Крымова Н. Я путешествую и возвращаюсь. // Советская эстрада и цирк. 1968. № 1. URL: https://sergeyyursky.memorial/1968-н-крымова-я-путешествую/ (дата обращения: 11.08.2024).
- Новиков В.И. В Союзе писателей не состоял (Писатель Владимир Высоцкий). М.: Интерпринт, 1991. 224 с.
- Рейтблат А.И. Как Пушкин вышел в гении: Историко-социологические очерки о книжной культуре Пушкинской эпохи. М.: Новое литературное обозрение, 2001. 336 с.
- Розанов И.Н. Литературные репутации. М.: Советский писатель, 1990. 464 с.
- Санкин Л.В. Советские литературные журналы против Владимира Высоцкого // Культура. 2014. № 1 (274). URL: http://www.relga.ru/Environ/WebObjects/tgu-www. woa/wa/Main?textid=3772&level1=main&level2=articles (дата обращения: 11.08.2024).
- Селезнев М.Б. Литературная репутация Ф.В. Булгарина в литературно-эстетических дискуссиях 1820-1840-х годов: дис.... к. филол. н.: 10.01.01. Челябинск, 2008. 183 с.
- Скобелев А.В., Шаулов С.М. Наш Высоцкий. Уфа: ARC, 2012. 483 с.
- Страшнов С.Л. Феномен Высоцкого в социокультурных контекстах 50-60-х годов // Мир Высоцкого: Исследования и материалы. Вып. ill. Т. 1. / сост. А.Е. Крылов и В.Ф. Щербакова. М.: ГКЦМ В.С. Высоцкого, 1999. С. 22-29.
- Томенчук Л.Я. Хула и комплименты (песенно-поэтическое творчество Владимира Высоцкого и критика 60-80-х годов) // Частный альманах «Владимир Высоцкий: исследования и материалы». № 1. 1993. С. 5-42.
- Чулков В. Две книги о Высоцком (несостоявшийся диалог) // Луч. 1993. № 3. URL: http://vv.mediaplanet.ni/articles/CHulkov-Dvc_knigi_o_Visotskom/.tcxt (дата обращения: 19.06.2024).
- Юрчак А.В. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. М.: Новое литературное обозрение, 2014. 664 с.
- Becker H. Art Worlds. Berkeley: University of California Press, 1984. 230 р.
- Geller M. Cogs in the Wheel: The Formation of Soviet Man. New York: Knopf, 1988. 293 p.
- Warner M. Publics and Counterpulics // Public Culture. 2002. Vol. 14. № 1. P. 4990.