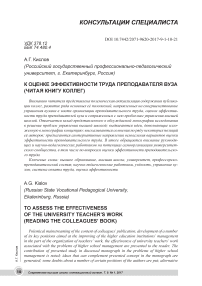К оценке эффективности труда преподавателя вуза (читая книгу коллег)
Автор: Кислов Александр Геннадьевич
Журнал: Современная высшая школа: инновационный аспект @journal-rbiu
Рубрика: Консультации специалиста
Статья в выпуске: 1 (35), 2017 года.
Бесплатный доступ
Вниманию читателя представлена полемическая актуализация содержания публикации коллег, развитие ряда основных её положений, направленных на совершенствование управления вузами в части организации преподавательского труда, оценки эффективности труда преподавателей вуза и сопряженным с нею проблемам управления высшей школой. Отмечается вклад представленного в обсуждаемой монографии исследования в решение проблем управления высшей школой; выдвигаются идеи, дополняющие изложенную в монографии концепцию; высказываются сомнения по ряду некоторых позиций её авторов; предлагаются альтернативные направления осмысления вариантов оценки эффективности преподавательского труда. В итоге обращается внимание руководящих и научно-педагогических работников на потенциал самоорганизации университетского сообщества, в том числе по вопросам оценки эффективности преподавательского труда
Высшее образование, высшая школа, университет, профессорско-преподавательский состав, научно-педагогические работники, учёность, управление вузом, система оплаты труда, оценка эффективности
Короткий адрес: https://sciup.org/14240089
IDR: 14240089 | УДК: 378.12 | DOI: 10.7442/2071-9620-2017-9-1-10-21
Текст научной статьи К оценке эффективности труда преподавателя вуза (читая книгу коллег)
В растущем потоке исследований и публикаций о высшей школе («феномене университета») речь по большей части идёт об институциональном её измерении, что неслучайно. В последние годы произошло осознание завершения очередного этапа исторической эволюции высшей школы, вступления её в период деинституциализации, который, скорее всего, откроет пути к её ре-... или неоин-ституциализации [15]. Но в любом случае высшая школа – не только институт. Она имеет и ярко выраженное персонифицированное, экзистенциальное измерение, редко освещаемое в научных публикациях, даже устных. Показательны материалы конференции, своим названием и замыслом обращенной к этому измерению [14]. Они откровенно институтоцентричны как в 2015-м, так и в 2016 гг. И всё же высшая школа – это ещё и люди (преподаватели, студенты, управленцы и иные работники) с их мета-, транс-, внеинституциональными талантами, заботами, амбициями, возможностями, достижениями, надеждами. Без них высшая школа также невозможна, как невозможна без правил, ценностей, организационных структур. Но со студентов, например, внимание исследователей в последнее время сместилось к приобретаемым ими компетенциям. Причины такого смещения внимания очевидно институциональны. По этим же причинам профессорско-преподавательский состав в последнее время рассматривается исключительно как институциональный же «ресурс», эффективность которого нужно неустанно и неуклонно повышать и повышать…
На этом фоне деперсонализации и даже дегуманизации трактовок проблем высшей школы, выхолащивания её экзистенциального, метаинституционально- го измерения из научных публикаций не могла не порадовать уже одним своим названием новая коллективная монография «Преподавательский труд в современной России: трансформация содержания и оценки» [9]. Её название выглядит даже трогательно: уж слишком много в последнее время голосов в пользу перемещения фигуры преподавателя на периферию образовательного процесса, а то и вытеснения её новыми технологиями, в которых программам и технике отводится всё больше места и значения. И хочется думать, что настало время проблема-тизировать не только роль преподавателя в современной высшей школе, но и распространившиеся её оценки и прогнозы относительно всей университетской топологии, ставшие уже неким общим местом. Верны ли они?! Является ли фигура преподавателя уходящей из пространства высшей школы?! Впрочем, обратившая на себя внимание монография не столько о преподавателе, сколько о его труде, в полном соответствии с её названием. Из него, таким образом, предварительно следует: труд преподавательский, похоже, пока ещё нужен. Подумаем: а нужен ли высшей школе сам преподаватель? Итак, обратимся к тексту монографии…
Конечно, довольно скоро найдём ожидаемое: «Ускорение научно-технического прогресса оказывает революционизирующее воздействие на технологии производства и передачи знаний и выступает основной предпосылкой необходимости реформирования образования и управления им» [9, с. 13]. Перемены в оценке роли и значения преподавателей, их труда и деятельности высшей школы в целом начались, однако, не с новых образовательных технологий. Ещё до их бума случился и продолжается бум широкого
К оценке эффективности труда преподавателя вуза (читая книгу коллег)
А.Г. Кислов
доступа к высшему образованию, прежде всего, за счёт домохозяйств. Массовиза-ция создала условия для распространения имитации «высшего» образования, одними контрольно-надзорными и репрессивными мерами с которой не справиться. Широкое обращение к новым, всё более обезличивающимся образовательным технологиям в значительной мере и было мотивировано широким притоком низкоквалифицированных преподавательских кадров вследствие массовиза-ции высшего образования. Технологии якобы гарантировали образовательный результат по-прежнему «высшего» качества, независимо от исполнителей, т.е. от преподавателей.
Возможно, решающую роль в прекращении массовизации высшего образования сегодня сыграют падение платежеспособности населения и автоматически следующее за ней возвращение к элитарной высшей школе. Но и в этом случае, как справедливо сказано на страницах монографии, «бюджеты вузов будут сокращаться по всем статьям, включая расходы на заработную плату профессорско-преподавательского состава (ППС) и других сотрудников, произойдет увеличение объёмов нагрузки, повышение интенсивности преподавательского труда, вырастут риски потери работы и снижения занятости в сфере высшего образования» [9, с. 8]. Более того, «в некоторых крупных университетах учебная нагрузка уже фактически приравнена к контактной» [9, с. 9]. То есть важнейшим следствием произошедшего в экономике стала растущая прекаризация труда ППС. В частности, повсеместно наблюдается «увеличение доли самостоятельной работы студентов, что ведет к необходимости совершенствования методической подготовки и методического обеспечения образовательного процесса, способов контроля самостоятельной работы и организации взаимодействия со студентами в процессе самостоятельного выполнения ими заданий. Это приводит к расширению границ рабочего времени преподавателей, т.к. поддержка самостоятельной работы студентов может не укладываться в рамки рабочего дня» [9, с. 11] – при том что педагогически она не только целесообразна, но и совершенно необходима. А из тех видов работ, в которых трудовое законодательство защищает преподавателя, последний всё более успешно вытесняется информационными и иными образовательными технологиями. Добавим: технологиями, большей частью деперсонифицирован-ными, нивелирующими роль личности и преподавателя, и студента.
Но и бойкот новых технологий может дать только один, ещё более плачевный, результат – вытеснение российских вузов зарубежными, причём, в тех формах, которые не предполагают и какое-либо вовлечение российской профессуры. Так что единственный шанс российских университетских преподавателей остаться востребованными – не отстать от технологического прогресса. Это задача и экзистенциальная, и в значительной степени управленческая, т.е. институциональная: если уж «в центре изменений, меняющих ландшафт высшего образования, оказываются профессионалы, занятые в академической сфере, и их деятельность становится объектом воздействия проводимых реформ, то профессорско-преподавательский состав должен рассматриваться как критически важный, стратегический ресурс» [9, с. 16]. Итак, профессорско-преподавательский состав пока ещё интересен реформаторам высшей школы, но не столько своим личностным измерением и даже не собственно преподавательским трудом, сколько как ресурс самих реформ, возможно, вплоть до полной его «выработки».
В монографии отмечено также ещё одно очень важное обстоятельство: наряду с массовизацией и технологическими изменениями сегодня растёт роль и содержательных причин, влияющих на преподавательский труд: современное «высшее образование в значительной степени должно опираться на формиро- вание “мягких” компетенций, спрос на которые постоянно растет в современной быстроизменяющейся динамичной экономике» [9, с. 23]. Впрочем, об этом измерении в монографии сказано немного.
В силу трёх этих причин и происходит «деформация роли преподавателя» [9, с. 8]: «От современного преподавателя высшей школы в России в настоящее время… требуется быть не только эффективным преподавателем, но и эффективным исследователем и создателем конкурентоспособных образовательных продуктов, в том числе и в электронной среде. Современному эффективному преподавателю высшей школы, кроме выполнения учебной нагрузки, необходимо заниматься научно-исследовательской деятельностью, чтобы всегда иметь актуальную информацию о новейших достижениях в своей области знаний. Кроме того, университетский преподаватель не может не являться активным членом международного профессионального сообщества педагогов и исследователей, он должен поддерживать плодотворные контакты с коллегами. В случае, если преподаватель вовлечен еще и в прикладные разработки, возникает и взаимодействие с потребителями этих научно-прикладных продуктов» [9, с. 24]. Думается, что даже у самого привыкшего к многообразию своих долженствований университетского преподавателя после этих строк закружится голова, не говоря о стороннем читателе монографии. «Однако, надо признать, что вышеописанная ситуация является во многом идеальной и в реальной практике работы российских университетов встречается редко. И причина здесь одна – изменение структуры занятости ППС в сторону перегрузки преподавателя учебной и, особенно, аудиторной нагрузкой» [9, с. 24], тем более что «нормативные акты не дают никаких указаний о нормах аудиторной (контактной) и внеаудиторной учебной нагрузки (так называемые “первая половина дня” и “вторая половина дня”)... Вследствие этого препода- ватель из создателя и интерпретатора знаний превращается в их простого ретранслятора,… теряется одна из главных особенностей учебного процесса – его индивидуальный и авторский подход в передаче не информации, но знаний… Большей части преподавателей попросту некогда проводить научные исследования, принимать участие в грантовой деятельности и международных исследовательских проектах, программах академической мобильности, устанавливать и развивать сотрудничество с реальным сектором экономики» [9, с. 24-25]. Так что реальный преподаватель очень далёк от ёмко сформулированного в монографии идеала, нарисованного, впрочем (идеальными ли?!!) ведомственными управленцами высшей школы...
Но благодаря им «из-за высокого уровня учебной нагрузки у преподавателя зачастую просто нет свободного времени, которое он бы мог потратить на творческую работу со своими магистрантами или аспирантами. Поэтому такая работа часто превращается в формальную, имитационную и рутинную в рамках отведенных индивидуальным планом работы часов. Это, в свою очередь, резко снижает качество подготовки кадров высшей квалификации в современных российских университетах» [9, с. 26] . Итак, «вопрос обоснованного распределения учебной и, в особенности, аудиторной нагрузки приобретает особую остроту» [9, с. 29] . Но существует ли его решение? Или для реформ оно незначимо, и потому вопрос будет решён автоматически вследствие решения вопроса о самом присутствии преподавателя в высшей школе? – решения в пользу технологий…
Пока же авторы монографии сетуют: «Определить, выполнил ли каждый конкретный преподаватель весь объём годовой нагрузки “второй половины дня” в академических часах, не представляется возможным, т.к. не установлены нормы времени на отдельные виды её работ. Для того чтобы можно было проконтроли-
К оценке эффективности труда преподавателя вуза (читая книгу коллег)
А.Г. Кислов
ровать степень выполнения преподавателем нагрузки в рамках “второй половины дня”, все виды работ, относящиеся к ней, должны быть оценены в академических часах, исходя из длительности и степени сложности их выполнения. Также должно определяться соотношение аудиторной (и, вообще, контактной) нагрузки и внеаудиторной учебной нагрузки преподавателя» [9, с. 30].
Заметим, однако, что если уж не всегда контактные виды работ удаётся корректно выразить в часах, то все существующие в вузах примеры такого сведения работ «второй половины дня» к часам имеют откровенно «среднепотолочный» характер. Меж тем давно известно, что сложный труд вообще нельзя оценить. За него, особенно за его результаты можно только заплатить, произвольно, но сообразуя произвол с целесообразностью, авансируя в том числе в отложенный в будущее эффект от этого труда, веря в этот эффект. Я.И. Кузьминов обоснованно называет образование «доверительной услугой», так как потребитель за неё платит «впрок», доверяя репутации вуза [2, с. 12]. Соответственно, и работодателю в сфере образования приходится доверять репутации преподавателя. И поскольку тот трудоустроен по результатам конкурсного отбора, работодателю приходится доверять коллегиальному решению, принятому во время конкурсного отбора. Это решение отнюдь не объективно, оно субъективно, но компромиссно. А объективного способа отбора тут быть и не может. Разве что можно объявить некий вариант произвола «объективным». Также можно объявить «объективной» и систему оценки преподавательского труда. Вот такую «объективность» пытаются изобрести и сторонники построений оценки преподавательского труда в часах ли, баллах ли, показателях эффективности ли, путая замысловатость с объективностью, а сравнение – со сведением к общему знаменателю, т.е. к унификации, исподволь унифицируя, делая однообразно «серой», обезличенной и всю вузовскую жизнь.
В монографии заявлено: «Наука, образование и инновации являются наиболее трудными объектами управления, что создает сложности с оценкой эффективности и получаемых результатов» [9, с. 59] , «во многих случаях деятельность преподавателя не поддается измерению, и внесенный в число показателей индикатор не может получить определенного значения» [9, с. 85]... Но всё же в монографии предложены к обсуждению и «всеохватывающие и все-учитывающие» системы оценки и стимулирования преподавательского труда, поскольку исповедуется следующее: «Безусловно, работа по совершенствованию системы нормирования нагрузки преподавателя должна быть продолжена. И идеальным результатом здесь видится такая система, которая бы обеспечивала, с одной стороны, справедливое с точки зрения трудозатрат распределение всех видов учебной и внеучеб-ной нагрузки, с другой – высокий уровень мотивации преподавателя к совершенствованию своих профессиональных навыков и, безусловно, адекватное затратам творческого труда преподавателя вознаграждение» [9, с. 38] .
Так, например, «в Уральском федеральном университете накоплен большой опыт реализации программы стимулирования преподавательского труда.… Для практического использования учетно-аналитического потенциала программы стимулирования преподавательского труда целесообразно применять следующие методические и инструментальные принципы исследования собираемых в рамках ее реализации данных: 1) в качестве основных статистических характеристик количественных переменных следует ориентироваться не на средние, а на медианные значения, а также процент их распределения; 2) целесообразно проводить анализ не только в целом по совокупности, но и в отдельных ее подгруппах (в разрезе структурных подразделений, занимаемых должностей, пола и, возможно, возраста сотрудников);
-
3) для оценки статистической значимости выявленных в подгруппах различий статистически более состоятельным является применение непараметрических тестов и критериев; 4) при анализе результатов преподавательского труда предлагается учитывать не только набранные баллы, но и количество тех видов деятельности, в которых сотрудник проявил свою активность; последнее характеризует спектр профессиональных компетенций преподавателя» [9, с. 101] .
В пятом же разделе монографии обосновывается и излагается более подробный вариант иной (ещё более «идеальной»?!) системы. Профессорско-преподавательский состав обнадёживающе именуется здесь уже не «ресурсом», а «капиталом»: «По нашему мнению, одним из важнейших внешних условий развития компетенций студентов университетов может выступать человеческий капитал преподавателей. Исходя из этой предпосылки, уровень развития профессиональных компетенций студентов и человеческий капитал преподавателей взаимосвязаны, и этот уровень может рассматриваться в качестве одного из ключевых результатов работы преподавателей» [9, с. 144] ; «в параграфах 5.2 и 5.3 описаны примененные методики анализа результативности преподавательского труда (с помощью которой измеряется человеческий капитал преподавателей) и уровня развития компетенций студентов (который отражает уровень развития человеческого капитала студентов). В параграфе 5.4 приведены результаты применения этих методик» [9, с. 145].
Можно снять шляпу перед разработчиком этой системы - построение отличается строгой логичностью, операцио-нальностью, соответствием нынешней государственной образовательной политике. Очень смущают лишь предпосылки, о которых разработчик со всей научной добросовестностью упоминает, например: «Отсутствие в федеральных государственных образовательных стандартах определенных названий компетенций, подобных тем, которые разрабатываются в научной теории, несогласованность научной теории и практики, несогласованность разных научных концепций, высокая дробность дескрипторных формулировок, использованных в текстах ФГОС, а также задача комплексного параллельного формирования одной компетенции в пределах разных учебных дисциплин и отсутствие механизма координации действий преподавателей разных дисциплин существенно осложняют решение задачи мониторинга формирования компетенций и измерения уровня их сформированности» [9, с. 141]; а «все общие рассуждения на тему того, как оценить компетенции, равно как и бесконечные перечисления их видов и разновидностей, столь распространенные в публикациях, не помогают, а лишь запутывают практиков и управленцев в образовании» [12, с. 270].
Представленное изящное интеллектуальное построение можно ещё усложнять и усложнять в погоне за совершенством. Но исходит оно из ряда крайне сомнительных, лишь административно предписанных допущений. И даже если разработчик к этим допущениям относится с нескрываемым неудовлетворением, то стоит ли, поблагодарив его за высококвалифицированную работу, спешить с внедрением подобной системы в практику университетского управления?! Во-первых, общая шкала «набрасывается» на заведомо разнородный педагогический коллектив, в котором есть люди, талантливые в разных ролях - преподавательском, исследовательском, организаторском и многих других. Задача управления - создавать условия для таких комбинаций этих индивидуальных талантов, в которых будет достигаться общезначимый для коллектива образовательной организации максимальный синергетический результат. Вряд ли задача университетского управления в том, чтоб каждый преподаватель был «и чтец, и жнец, и на дуде игрец». Содержательного
К оценке эффективности труда преподавателя вуза (читая книгу коллег)
А.Г. Кислов
толку от такого «многостаночника» будет немного.
Во-вторых, общая шкала, если её начать внедрять повсеместно, «набрасывается» и на все вузы. Но почему они должны быть одинаковыми?! Вопрос риторический…
В-третьих, системы оплаты преподавательского труда, тем более стимулирующих выплат за него, необходимо строить с учётом так называемых академических бонусов. Потому сочетание, синергия унифицированных общеакадемических критериев с индивидуальными, задаваемыми в вузах коллегиально, – это очевидный путь, по которому университеты идут уже не одно столетие, пополняя ряды своих преподавателей достойными и освобождаясь от недостойных в рамках продуманных конкурсных процедур. Почему нужно сойти с этого пути на путь якобы объективных, а на самом деле произвольно навязанных администрациями унифицированных замеров?!!
Все случившиеся сегодня с вузами перемены являются не причинами радикальной унификации профессорско-преподавательского состава (с помощью рейтингов, например), радикального вытеснения его на периферию вузовской жизни (подчиняя её новым образовательным технологиям), а поводом к депрофес-соризация высшей школы, что и станет неизбежным результатом её менеджери-зации, которую пора бы «осадить», потому что без профессоров высшая школа превратится в лучшем случае в центры информационного взаимодействия студентов с немногими мощными «топовыми» отечественными университетами и многими зарубежными. Т.е. следующим этапом менеджеризации отечественного высшего образования станут его сворачивание и денационализация (замена иностранным), причём, не самого хорошего качества, поскольку профессура в таком дистанционном варианте будет представлена только своими программно-технологическими эрзацами, не будет прямо взаимодействовать со студентами. Но именно в этом - экзистенциально «нагруженном» - непосредственном взаимодействии происходит интенсивное личностное развитие студентов. А личностное развитие - «материя» высокоиндивидуа-лизированная, к общим знаменателям не сводимая. Итак, менеджеризация, порождающая, депрофессоризацию, привёдет также и к личностной примитивизации студенчества и выпускников отечественной высшей школы.
Таким образом, приходится согласиться с авторами монографии, когда они тему преподавательского труда трактуют в ключе вузовского управления: это оно может привести к разгону составляющих основу высшей школы кадров, а может вернуть им роль коллегиального субъекта - решающей многие вопросы инстанции, а не «ресурса». И тогда этот субъект обеспечит себе и роль «капитала», т.е. самовозрастающей ценности/стоимости, саморазвивающегося, догоняющего и созидающего научный, технологический, образовательный потенциал.
С сообществом профессоров и преподавателей нужно обсудить и «необходимость перехода к новым, более эффективным, гибким и адаптивным организационным структурам» [9, с. 17], и «переход от линейно-функциональной организационной структуры к структуре с преобладанием гибких инновационно-ориентированных структур на основе концепций адаптивного университета, создания мобильных исследовательских единиц (Organized Research Units - ORU), матричной организации научно-образовательной деятельности» [9, с. 17] . Что потребует «компетенции НПР в организации проектной деятельности, лидерские компетенции» [9, с. 17] . Тут главное – не свести все организационные изменения к тотальной замене профессоров если не на роботов, то на лидеров, т.е. на начальников над профессорами.
Предполагаемые и кое-где уже начавшиеся перемены означают и «необходимость изменения традиционной кафедральной структуры высшей школы»
-
[9, с. 18] , «переход от факультетов и кафедр к Учебно-научно-инновационным комплексам, представляющим собой научно-образовательные институты, центры, филиалы и отделения, в состав которых наряду с образовательными и научными подразделениями (кафедрами, лабораториями) будут входить инновационные и бизнес-структуры» [9, с. 18] .
Всё это обсуждаемо и решаемо, если учесть: «Сегодня можно констатировать, что в условиях глобальной конкуренции на рынках образования и исследований степень академической и управленческой автономии становится ключевым фактором успешности университетов мирового класса. Лидеры мировых рейтингов – университеты США – характеризуются не только финансовой состоятельностью, но и относительной независимостью от государства, духом состязательности, которым пронизаны все их элементы, способностью осуществлять учебный процесс и производить продукцию, важную и полезную для общества. Сама среда и условия работы в этих университетах способствуют духу свободной конкуренции, формированию ничем не сдерживаемой научной пытливости, критического мышления, инноваций и творчества. Автономные вузы становятся и более гибкими, так как они не связаны бюрократическими процедурами и навязанными извне стандартами и могут распоряжаться своими ресурсами, оперативно реагировать на потребности быстро меняющегося глобального рынка» [9, с. 59] . Сравним это с тем, что прозвучало на международной конференции по социальной ответственности ученых в Лондоне ещё в 1970 г.: «Провести размежевание, возможно полное размежевание между наукой и правительствами во всех странах… Это отделение науки от государства в том же смысле, в каком церковь отделилась от государства» [8] .
В монографии читаем: «Ключевыми направлениями развития вузовской автономии становится не расширение зон управления и приращение новых управленческих функций, а разделение академического и административного управления; поиск новых форм, баланса полномочий и ответственности органов коллегиального управления; усиление роли экспертных структур в системе управления вузом… …сегодня крайне необходима поддержка проектов по формированию систем управления университетами, основанных на вовлечении и участии преподавателей. Разделение управления должно пронизывать все уровни управления в вузе и реализовываться во всех его академических подразделениях» [9, с. 79].
Можно в качестве примера остановиться на предложениях, изложенных в работах Л.В. Львова и М.В. Усынина [5; 6], а также ряда других авторов [1; 4; 7; 13] . В качестве направления повышения эффективности управления образовательным процессом развивающегося вуза авторами «предлагается последовательно-параллельное уровневое управление (воздействием и взаимодействием субъектов), понимаемое как распределение функций управления во времени с целью сокращения управленческого цикла, на основе делегирования функциональных полномочий на нижерасположенный уровень управления в виде ограничений при безусловном сохранении ответственности» [6, с. 125] .
Вспомним, что основаниями особого институционального статуса университетов стала сохраняющаяся по сей день востребованность обществом в обособлении и постоянном воспроизводстве социальной группы свободно мыслящих интеллектуалов: «Если попытаться определить, что такое интеллектуал европейского типа, то может получиться: “человек, не только занятый преимущественно умственным трудом, но и обязанный своим особым социальным статусом именно этому занятию”. Общество официально выдает ему свидетельство в его способностях и праве на интеллектуальный труд, который затем происходит в условиях относительной свободы. Сочетание
К оценке эффективности труда преподавателя вуза (читая книгу коллег)
А.Г. Кислов
этих признаков определяет европейскую специфику данного типа деятельности. Причем, инстанцией, выдающей подобное свидетельство (степень, диплом), является сообщество равных – корпорация равных (корпорация ученых), действующая в автономном режиме, хотя, конечно, с ведома и одобрения государственных структур. Такая система сложилась в Средние века, когда возникла университетская система, изменчивая, но вместе с тем удивительно постоянная» [10] . Внутри этой корпорации вырабатывался особый университетский образ жизни, к атрибутивным свойствам которого относилось (экзистенциальное!) стремление к знанию и свободному общению, что провоцировало (экзистенциальную!) открытость сообщества студентов и преподавателей другим институтам и личностям и вело к приобретению университетами общекультурного значения. Европейская социальность уже в античные времена «санкционировала отклонение от нормы как таковой, сделала социально значимыми и подлежащими трансляции такие понятия, как «талант», «уникальность», «оригинальность», «автор», «плагиат» и т.п.» [8] .
М.К. Петров «выводит» науку и институционально ей посвящённый университет из атомизации архаичного европейского общества: община теряет свою тотальную власть над индивидами. АР Нисбет квалифицировал современный университет как осколок Средневековья, который сохранился и функционирует не потому, что он сумел приспособиться к новым условиям существования по правилам всеобщей современной продажности Gesellschaft (университет способен жить лишь по цеховой корпоративной норме общности и равноправия Gemeinschaft), а сохраняется он и функционирует потому, что современное капиталистическое общество вынуждено к нему приспосабливаться, поскольку оно не сумело выработать своего собственного трансмутационно-трансляци-онного интерьера (термин М.К. Петрова), за неимением лучшего и по органической неспособности выдумать лучшее обязано терпеть этот средневековый социальный институт [16].
Университеты воспитывали не столько профессионалов, сколько активных носителей, субъектов культуры, людей с особыми социальными ориентирами и соответствующим мировосприятием, людей, не растворённых в своём клане, приходе, даже в своей университетской корпорации, относительно автономных интеллектуалов. Они были и являются относительно автономными интеллектуалами не столько в силу институциональных, сколько в силу экзистенциальных причин. Университеты же как особый социальный институт могут лишь создавать соответствующие условия для такой социально востребованной экзистенции. Потому же университеты закономерно становятся учебными заведениями не для всех, а для широко трактуемой, но всё же элиты общества, для людей, которые впоследствии либо будут занимать высшие правительственные или церковные посты, либо будут активно участвовать в управлении, в том числе умной, обоснованной и порой очень едкой его критикой. «Знание, воплощённое университетами, очень скоро приняло вид Силы , Порядка. Это была Учёность, вознёсшаяся наравне со Священством и Властью. Университарии также стремились самоопределиться как интеллектуальная аристократия, обладающая своей особой моралью и своей собственной системой ценностей» [3, с. 129].
Что станется с Учёностью в наше время в нашем Отечестве, если в погоне за «эффективностью» вытеснить Её носителей - университетских профессоров – на периферию вузовской жизни, например, унифицирующими системами оценки, оплаты и стимулирования труда? Очевидно, что Учёность переместится из университетов в другие социальные институты - в неноминальные Университеты. А номинальные останутся паразитическими социальными образованиями, подчинёнными не Учёности, а бюрокра- тии, с её умением подменять труд поисками систем его стимулирования, а результаты – отчётностью. Бюрократия не воспринимает экзистенциальные выходы профессуры за институциональные границы – их к отчётам «не подошьёшь». И не вставишь в отчёт экзистенциальные истоки профессорского креатива.
Повторим: университет лишь может создавать для него условия. А может пойти по пути дераспрофессоризации, сводя всё к критериям и показателям «эффективности», придуманной чиновниками или их добровольными помощниками из профессуры. Институциональное измерение высшей школы отвечает за условия, в которых реализуется или «замораживается» креативный потенциал профессорско-преподавательского состава, в том числе в сфере реализации новейших образовательных технологий. Но технологии без профессорско-преподавательского состава вряд ли станут результативными, они по инерции могут лишь сохранить её всё равно угасающий без экзистенциальной подпитки живых профессоров, преподавателей результат [11] .
Список литературы К оценке эффективности труда преподавателя вуза (читая книгу коллег)
- Андреев О.С. Реинжиниринг как новое качество управления технологиями проектирования бизнес-процессов в условиях обучения в современном вузе//Современная высшая школа: инновационный аспект. -2016. -№ 1. С. 89-98.
- Кузьминов Я.И. Наши университеты //Экономика образования. -2008. -№ 4(48). -Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/nashi-universitety
- Ле Гофф Ж. Другое Средневековье: Время, труд и культура Запада. -Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2002. -326 с.
- Лукашеня З.В. Управление функционированием вуза в режиме организационного развития посредством реализации его консалтинговой функции//Современная высшая школа: инновационный аспект. -2016. -№ 3. С. 21-31.
- Львов Л.В. Проблемы моделирования профессионально-образовательной деятельности опережающего уровня//Современная высшая школа: инновационный аспект. -2016. -№ 1. С. 75-88.
- Львов Л.В., Усынин М.В. Проблемы интеграции в ходе управления образовательно-профессиональным процессом развивающегося вуза//Современная высшая школа: инновационный аспект. -2016. -№2. С. 122-134.
- Перевозова О.В., Пигузова С.В. Управленческая неэффективность менеджеров как сигнал кризисной ситуации в вузе//Современная высшая школа: инновационный аспект. -2016. -№ 3. С. 55-62.
- Петров М.К. Язык, знак, культура. -М.: Наука, 1991. -328 с.
- Преподавательский труд в современной России: трансформация содержания и оценки: монография/под ред. А.П. Багировой. -Екатеринбург: Издво Урал. ун-та, 2016. -207 с.
- Уваров П.Ю. У истоков университетской корпорации: публичная лекция //Полит.ру. -Режим доступа: http://www.polit.ru/lectures/2010/02/04/university/
- Фоминых М.В. Особенности педагогического взаимодействия в условиях проблемно-модельного подхода//Высшее образование сегодня. -2017. -№ 1. С. 11-12.
- Челышкова М.Б. Аттестация выпускников вузов в рамках компетентностного подхода//Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. -2012. -Т. 18. -№ 6 (6). С. 270-273.
- Шмонова Т.А. Эффективная система управления предприятием на основе международных стандартов управления//Современная высшая школа: инновационный аспект. -2016. -№ 3. С. 72-84.
- HR-TREND 2016: Человеческое измерение университета. //Международная конференция (Национальный исследовательский Томский государственный университет). -Режим доступа: http://hr-trend.tsu.ru/
- Kislov A.G., Shmurygina O.V. Forthcoming Plans for Institutional Transformation of Russian Higher Education//Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences 3. -2013. -№ 6. Р. 438-454.
- Nisbet R. The Degradation of the Academic Dogma: The University in America, 1945-1970. New York, 1970. -252 p.
- Andreev O.S. Reengineering as a new quality of management of technologies for designing business processes in the conditions of training in a modern university//Contemporary Higher Education: Innovative Aspects. -2016. -No. 1. P. 89-98.
- Kuzminov Ya.I. Our universities. -2008. -No. 4 (48). C. 12. Available at: http://umj.ru/index.php/pub/inside/825
- Le Goff J. Other Middle Ages: Time, Labor and Culture of the West. Ekaterinburg: Publishing house Ural. University, 2002. -326 p.
- Lukashenya Z.V. Management of the functioning of the university in the mode of organizational development through the implementation of its consulting function//Contemporary Higher Education: Innovative Aspects. -2016. -No. 3. P. 21-31.
- Lvov L.V. Problems of modeling the professional and educational activities of the advanced level//Contemporary Higher Education: Innovative Aspects. -2016. -No. 1. P. 75-88.
- Lvov L.V., Usynin M.V. Problems of integration in the management of educational and professional process of developing the university//Contemporary Higher Education: Innovative Aspects. -2016. -№2. Pp. 122-134.
- Perevozova O.V., Piguzova S.V. Administrative inefciency of managers as a signal of a crisis in high school//Contemporary Higher Education: Innovative Aspects. -2016. -No. 3. P. 55-62.
- Petrov M.K. Language, sign, culture. Moscow, Nauka, 1991. -328 p. Available at: http://www.runivers.ru/lib/book6241/144994/
- Teaching work in modern Russia: the transformation of content and evaluation: monograph/under total. Ed. Prof. A.P. Bagirova. Ekaterinburg: Publishing house Ural. University, 2016. -207 p.
- Uvarov P.Yu. At the origins of the university corporation: a public lecture. Available at: http://www.polit.ru/lectures/2010/02/04/university
- Fominykh M.V. Peculiarities of pedagogical interaction in conditions of the problem-mobel approach//Vyssheye obrazovaniye segodnya. -2017. -№ 1. P. 11-12.
- Chelyshkova M.B. Certication of graduates of higher educational institutions within the framework of a competent approach//Vestnik Kostromskogo gosudarstvennogo universiteta imeni N.A. Nekrasova. -2012. -T. 18. -№ 6 (6). P. 270-273.
- Shmonova TA Efcient enterprise management system based on international standards of management//Contemporary Higher Education: Innovative Aspects. -2016. -No. 3. P. 72-84.
- HR-TREND 2016: The Human Dimension of the University. International conference (National Research Tomsk State University). Available at: http://hr-trend.tsu.ru/
- Kislov A.G., Shmurygina O.V. Forthcoming Plans for Institutional Transformation of Russian Higher Education//Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences 3. -2013. -№ 6. Р. 438-454.
- Nisbet R. The Degradation of the Academic Dogma: The University in America, 1945-1970. New York, 1970. -252 p.