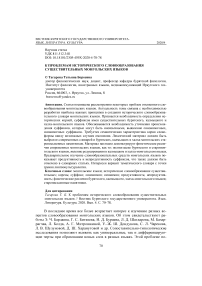К проблемам исторического словообразования существительных монгольских языков
Автор: Тагарова Татьяна Бороевна
Статья в выпуске: 4, 2020 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена рассмотрению некоторых проблем отыменного словообразования монгольских языков. Актуальность темы связана с необходимостью разработки наиболее важных принципов в создании исторического словообразовательного словаря монгольских языков. Признается необходимость определения исторических корней, суффиксов имен существительных бурятского, калмыцкого и халха-монгольского языков. Обосновывается необходимость уточнения происхождения суффиксов, которые могут быть иноязычными, выявление синонимичных, омонимичных суффиксов. Требуется семантическая характеристика корня слово-формы ввиду возможных случаев омонимии. Лексический материал должен быть выбран из современных словарей и бурятских, калмыцких и халха-монгольских старописьменных памятников. Материал наглядно демонстрирует фонетические различия современных монгольских языков, как то: полногласие бурятского и старомонгольского языков, явление редуцирования в калмыцком и халха-монгольском языках. Предварительное изучение словообразовательных средств монгольских языков показывает продуктивность и непродуктивность суффиксов, что также должно быть отмечено в словарных статьях. Интересен вариант тематического словаря с точки зрения лингвокультурологии
Монгольские языки, историческое словообразование существительных, корень, суффикс, синонимия, омонимия, продуктивность, непродуктивность, фонетические различия бурятского, калмыцкого, халха-монгольского языков, старописьменные памятники
Короткий адрес: https://sciup.org/148316573
IDR: 148316573 | УДК: 811.512.3:81 | DOI: 10.18101/2305-459X-2020-4-70-78
Текст научной статьи К проблемам исторического словообразования существительных монгольских языков
Тагарова Т. Б. К проблемам исторического словообразования существительных монгольских языков // Вестник Бурятского государственного университета. Язык. Литература. Культура. 2020. Вып. 4. С. 70‒78.
В последнее время все более возрастает интерес к изучению разных аспектов словообразования монгольских языков. Об этом свидетельствуют работы Э. Ч. Бардаева, Г. С. Биткеева, И. Д. Бураева, Л. Д. Шагдарова, М. Базар-рагчаа, Л. Болда, А. Г. Митрошкиной, У.-Ж. Ш. Дондукова, С. Л. Чарекова, Л. В. Шулуновой, Д. Ш. Харанутовой и др. Сопоставительно-типологические исследования позволяют выявить как универсальные, так и дифференцирующие черты при образовании новых слов в разных языках. Этой проблеме по- священы известные работы по родственным монгольским языкам Д. А. Сусее-вой, Н. А. Баскакова, Ц. Д. Номинханова, В. И. Рассадина, А. М. Щербака), работы по словообразованию разноструктурных языков С. Галсана, Э. Равдана, Г. Жамбалсурена, А. А. Дарбеевой, С. М. Трофимовой, А. С. Жаргалова, О. Д. Бухаевой, В. В. Базаровой, С. В. Андреевой, Г. З. Сажинова, В. М. Его-дуровой, И. О. Хинхаевой и др.
Думается, попытка обзора аффиксального образования отсубстантивных существительных будет иметь значение для последующих исследований по историческому словообразованию, по словообразовательной системе конкретных монгольских языков, при составлении словообразовательного словаря. Исследователям предстоит работа по составлению словообразовательных словарей бурятского и халха-монгольского языков, калмыцкий словообразовательный словарь, как известно, существует благодаря Д. А. Сусеевой.
С точки зрения исторического словообразования можно отметить, что известный востоковед В. И. Рассадин уделял особое внимание суффиксу -sun , доказывая, что это древнейший словообразовательный аффикс имен существительных [8 с. 152], маркер основ имен существительных, отграничивающий их от прилагательных, числительных в функции определения с маркировкой -н (например, халха-монгольское (х-м.) мод ‘дерево’, модон ‘деревянный’ и т. д.).
Как показывают наблюдения, данный исторический суффикс выделяется в следующих современных словах в усеченном или измененном виде, или можно заметить след этого суффикса: так, старописьменная монгольская форма (СПМ) слова ‘грива’ — delsün, бурятское (бур.) дэлhэн (h//с) , х.-м. дэл , калмыцкое (калм.) дел ; manggirsun ‘дикий чеснок’, ср. х.-м., бур. мангир , бур. диал. мaньйahaн , калм. мэцгрсн ; kimulsun, х.-м. хумс, бур. хюмhaн , калм. хумсн ‘ногти’; aduɣusun х.-м. адуу , бур. адууhан ‘домашний скот’ (с мал ), адуун ‘табун лошадей’, калм. адусн ‘домашнее животное’ (от *aduyu) и т. д. При этом наблюдаются фонетические различия в монгольских языках в оформлении исторического суффикса -sun: - с , - haн (- hoн, -hэн ), - сн . Ср.: бур. уhaн ‘вода’, Yhэн ‘в0— лосы’, тоhон ‘масло’, шуhан ‘кровь’, х.-м. соотв. ус , үс , тос , цус (здесь беглый - н проявляется при изменении формы слова) и т. д., восходящих к основам с * -sun.
Это подтверждают примеры О. Самбуудоржа: х.-м. аргал , хоргол , гутал , гадас , хурууд , гогод , гомдол и др., ойр. диал. аргас(ан) , хоргос(он), гос(он), гас(ан), хурс(ан), гогос(он), гундас(ан) , древние формы которых восстанавливаются следующим образом: * харгалсун, *хорголсун, *годулсун, *гадалсун, *хурудсун, *гогудсун, *гомдулсун [6, с. 99]. Таким образом, автор справедливо заключает, что при реконструкции древних форм важную роль играет обращение к диалектным формам. Ср. бур. аргал , хoргoohoн , гутал , диал. гoдohoн , га-дahaн , aйрhaн , гоогол, диал. гooгohoн, гомодол .
Особый интерес по времени образования вызывают составные суффиксы. Как известно, у имени существительного монгольских языков суффиксы наряду с простыми (х.-м. гар-ц , бур. гара-са, калм. haр-ц ‘переход, брод’) могут быть и составными (бур. ури-лд+аан, х.-м. ура-лд-аан ‘соревнование’ и т. д.).
Возникновение производных (словообразовательных) форм относится к древнейшим временам, видимо, еще задолго до появления первых письменных памятников, которые фиксировали уже появившиеся в языке новые лексические образования.
Так, в Mongol-un Nigucha Tobchiyan ‘Сокровенное сказание монголов’ [15, 1240] можно выделить такие производные основы, как ɣudusun (§ 114, 145), бур. диал. годоhон , лит. гутал , х.-м. годон гутал , калм. hосн , здесь выделяется суффикс - sun/-hон/-сн ; возможно, этот же суффикс имеется в слове urtesun (§ 238), бур. үртэhэн , х.-м. үртэс , калм үүрэдцн ; ungɣasutu (§ 85) определяет tergen, muqulaɣ (в слове muqulaɣ можно отметить суффикс -laɣ или -ɣ). На наш взгляд, здесь представлено относительное прилагательное с производной основой с суффиксом -tu > та/-тэ/-то , непроизводная основа — ungyasun.
Такие слова, как kümüldürge (§ 80), qudarɣa, uɣurɣa (§ 199), демонстрируют суффикс -rge/-rɣa, бур. хүмэлдэргэ , х.-м. хѳмѳлдрѳг , калм. кемрг, бур. хударга , х.-м. худрага , калм. худрh ; бур. урга , х.-м. уурга , калм. урха c суффиксом - рга/-рага/-рН/-ргэ/-рег/-рг и т.д.
Суффиксы, образующие существительные от разных частей речи, в языке MNT многочисленны. Мы приведем примеры существительных, образованных от существительных: jiɣasu-či, бур. загаhашан , х.-м. загасчин , калм. загсч , angɣu-čin бур. ангуушан, х.-м. ангууч , калм. аңhуч , gede-sü гэдэhэн , гэдэс , гесн , nuyu-su нугаhан , нугас , нуhсн , belbe-sun, бэлбэhэн , бэлэвсэн , белвсн , mongyol-jin монголжон , монголжин , qar-čaɣa, харсага , харцага , харцх , ger-gei, гэргэн , гэргий , гергн , mӧči-r, мүшэр , мѳчир , бүчр ; qoro-qan, горхон , горхи , hорьк , ayi-maq, аймаг, әәмг ; muqu-laq (§ 6), muqa-lai (§ 55), х-м. мухлаг и т. д.
Существительные от прилагательных: qoj-uul (§ 27), бур. гозуули ‘пень’ от гозон ‘торчащий, одинокий’, х.-м. хожуул ‘пень’ родственны хожуу , хоцронгуй , хожимдож (qojiɣu), калм. модна йозур ‘пень’; čegege (§ 28), бур. сэг-ээ родственно сагаан ‘белый’, х.-м. цэгээ, гYYний айраг, цагаан ; калм. ээрг ; casun, саhан , цас, цасн ‘снег’, adar-aa (§ 46), бур., х-м. адар ( хэдэр хэвцэг зан ), калм. адрсн , адрлhн и т. д.
Таким образом, можно установить, что ко времени создания MNT [15] в старописьменном монгольском наблюдается активный словообразовательный процесс, включающий аффиксацию.
В памятниках бурятской письменной культуры, созданных на старописьменной монгольской графике, примеры аффиксального словообразования немногочисленны. Например, в летописи «История селенгинских монголо-бу-рят» (1868 г.) существительное старописьменного монгольского kelemürči > бур. хэлэмэршэ ‘переводчик’от корня хэл - + суффикс -мэр + суффикс - шэ ; üyiledberi > бур. Yйлэдбэри , х-м. Yйлдвэр , где выделяется корень Yйл-/Yйлэ - + глаголообразующий суффикс - де + образующий существительное суффикс - бэри ; mürübči > бур. мүрэбшэ , х.-м. мѳрѳвч просматриваются корень мүр/мѳр , суффикс - бшэ /- вч , что подтверждает характерные для монгольских языков фонетические варианты аффиксов как следствие реализации закона сингармонизма и т. д.
Исследователями выявляется около ста словообразовательных суффиксов существительных в монгольских языках (в межъязыковых фонетических вариантах), например:
-
1) со значением ‘человек’:
-
-га/-Ь: абга , х.-м. авга , калм. авh ; -гы/-гуй: худагы , х.-м. худгуй , калм. худ эмгн ; -тан/тэ: бур., х.-м. эрдэмтэн , калм. номта кYн ; -ша/-ч: бур. газарша , х.-м. газарч , калм. hазрч ; -шан/-чин/-ч: хонишон , х.-м. хоньчин, калм. хееч , -уушан/-ууч/-ч/-Ьуч: бур. ангуушан , х.-м. ангууч , анч , калм. ацhуч ; -мад/-гч: бур. ахамад , х.-м. ахмад , калм. ахлагч ; -нсар/-нцар/-нчр: бур. зээнсэр , х.-м. зээнцэр , калм. зеенчр и т. д.;
-
2) со значением ‘животное, растение’:
-
-ан/-н: бур. гунан , х-м. гуна(н) , калм. hунн ; -гшан/-гч/-гчн: бур. борогшон , х.-м. борогч , калм. боргчн ; -жан/-ж/-^н: бур. дунжэн , х.-м. денж , калм. ден^н ; -лан/-лсн: шудэлэн , х.-м. шудлэн , калм. шудлсн ‘двухгодовалый скот’; -лдай: бур., х.-м. (алтан) гургалдай , аб(в)галдай ; -та/-тан/-т: араата , х.-м. араатан , калм. арат ‘лиса’; -муур/-мор: бур. булжамуур , х-м. болжмор (калм. торhа ‘жаворонок’); -тан/-тнр: бур. жэгYYртэн , х.-м. жигYYPтэн , калм. живртнр , живртэнр ; -ргана/-рЬн: бур., х.-м. алтаргана , калм . алтарhн ; -гана/-лзгана/ -Ьн: бур. улаагана , х-м. улаалзгана , калм. улаhн и т. д.;
-
3) со значением ‘предмет, утварь’:
-
-та: бур. амhарта (х-м. сав суулга , хувин , калм. сав , сав-саух , сав-сарх , ааh-шанh ); -бша/-вч/-вш: бур. XYбшэ , х.-м. хевч , бур. тооробшо (калм. тоорцг ), бур. тобшо , х.-м., калм. товч ; -лжан/-лжин/-л^н: бур. гурбалжан , х.-м. гурвал-жин , калм. Иурвлжн ; -саг: бур. оёорсог ; -лиг/-цг: бур. бэhэлиг (х.-м. бэлзэг , бегж , калм. билцг , теелг ); -за/-з: бур., х.-м. хYрз(э) , калм. курз ; -м: бур. YPэм , х.-м. ерем , калм. ерм ; -уур/-гуур/-ур: бур. хадуур , х-м. хадуур , калм. хадур и т. д.
Приведенные примеры демонстрируют широкий объем монгольских суффиксов с некоторыми различиями в развитии суффиксов и семантики слов, например бур. тобшо и х.-м., калм. товч (‘пуговица’, ‘краткость точность’). Также некоторые понятия могут быть переданы разными словоформами, разными звуковыми оболочками, например бур. булаша , х.-м. бин , калм. hуйр ‘лепешка’ и т. д. Здесь возможно влияние других языков, тюркских, китайского и т. д.
В ходе исторического развития понятие продуктивности или непродуктивности той или иной модели было исторически изменчивым. Так есть суффиксы, которые были продуктивными в прошлом (например, -ган : унэгэн ‘лисица’, хурьган ‘ягненок’, тарбаган ‘степной сурок’), но в современных монгольских языках выпали из активных словообразовательных средств языка.
В современных монгольских языках наблюдается активное функционирование древних суффиксов, которые были и в старописьменном монгольском языке. Так. отметим, что в § 192 MNT [15] в контексте <…> baourči, eudnči, aqtači üdür kesik oroju <…> Пусть виночерпии, привратники и коневоды днем находятся в ставке <^> в словах baourci, eudnci, aqtaci определяем суффиксы, образовавшие существительные от корней baour- ‘котел’ (в пер.
С. А. Козина на русский язык — ‘кравчие’, т. е. ведающие столом [15, с. 85], в пер. на бурятский — тогоошо , т. е. повар [15, с. 103]), eudn- ‘дверь’, aqta- ‘конь’. Данный суффикс передает значение профессиональной принадлежности, характеристики человека по владению каким-либо умением. Ср. совр. бур. га-зарша ‘проводник’, эм шэн ‘врач’ и т. д., калм. Назрч , эмч и т. д., х.-м. бууч ‘стрелок’, шог ч ‘остряк’, зуу ч ‘посредник’ и т. д. В современном языке можно считать этот суффикс продуктивным.
При рассмотрении же исторических процессов словообразования, членении слова на морфемы невозможно обойтись без обращения к этимологическому анализу. Например, на наш взгляд, с большой долей вероятности можно предположить, что х.-м. хѳгжим , бур. хүгжэм , калм. кѳгҗм исторически образованы от хѳг -/ хүг -/ кѳг -. Существуют родственные, однокоренные слова: х.-м. хѳг , хѳгтэй , хѳгжѳѳн , хѳгжилтэй , хѳгжилдѳх и т. д., калм. кѳг муз. I гармония, настройка, II с.-х. случное время, кѳгҗәлтә развитый, развивающийся, кегжм музыка и т. д. На наш взгляд, семантическим знаменателем можно поставить значение ‘эмоционального подъема’ (в том числе и от музыки).
Глаголы хѳгжих и хѳгжѳѳх , вероятно, также соотносились в раннее время с семантическим полем ‘веселье’, если связать с тем, что следствием развития, процветания может быть психологическое состояние радости, душевного подъема. В бурятском языке, возможно, хүгжэм соотносится со словом хүхихэ , хүгжэхэ и т. д., в калмыцком — хѳкр ‘веселый, шутливый’ и т. д., т. е. можно выделить исторический корень хег-/хуг-/кег-.
На синхронном уровне в основе хегжим/хугжэм/кегжм аффиксы не выделяются, но на диахронном уровне можно, на наш взгляд, выделить исторический суффикс - жим/-жэм/-жм . Данный суффикс является непродуктивным в настоящее время для образования существительных.
При определении исторического суффикса важным фактором является выявление его происхождения, так, ученые выявляют их иноязычное происхождение, например тюркские морфологические элементы. Так, количество аффиксальных морфем тюркского происхождения в бурятском языке значительно, хотя не все они продуктивны, отмечает А. М. Щербак [14 , c. 92]. Это, среди прочих, суффиксы отыменного образования имен тюркского происхождения:
-
-šan ~ šen (-ša, -še): бур. abaralša(n), altaša, tümerše(n), калм. aduč, balč, emč, х.-м. dūčin, dzagasč(in) и т. д.; -sag ~ sog ~ seg: бур. оronsog, hūlgansag; maxasag, emeseg, калм. ingsg, x.-м. sarimsag и т. д.; -gana ~ -gene: бур. altargana, gü-lzȫrgene, x.-м. balčirgana, dzedgene и т. д.; -darga ~ -derge: belterge, hagaldarga, kaлм. ultrg, x.-м. beltreg, segeldreg и т. д. [14, с. 92–100].
Приведенные суффиксальные образования представляют собой интерес с исторической стороны — как эти формы передаются в древних монгольских памятниках письменности, какие изменения претерпели суффиксы до современного состояния языка.
Несомненный интерес представляет собой развитие явления синонимии, омонимии суффиксов. Так, Д. А. Сусеевой выделяется синонимический словообразовательный тип, когда словообразовательные значения близки по смыслу: (отглагольные образования) кѳѳвр ‘угон, перегон скота’ и кѳѳгүл ‘угон’ и т. д. [9, с. 156]. Омонимические типы имеют тождественные формальные показатели (суффикс -вр ): дасвр ‘привычка’, келвр ‘рассказ’ и улавр ‘красноватый’, кѳквр ‘синеватый’, где производящие основы относятся к разным растям речи — к существительному и прилагательному [там же, с. 163]. И в бурятском языке имеем туул маг мешок, шүү мэг сито (существительные) и холи мог , ху-дха маг (прилагательные) (суффикс - маг ) и т. д. Хотя можно заметить переход последних в разряд существительных.
Следующие исторические суффиксы в словах ta-ɣā ‘отгадывать’ ~ ta-ɣā ‘покой, уют’, to-ɣā ‘количество’ ~ to-ɣu ‘оказывать внимание’, ta-la ‘поле, степь’ ~ ta-la ‘грабить, убивать’, bu-qa ‘бык’ ~ bu-qa ‘сбрасывать, отказываться’, büri-n ‘всякий, полный’ ~ büri- ‘покрывать’, jǖ-i ‘сущность, принцип’ ~ jǖ-yi ‘составлять из отдельных частей’ являются показателем и имени, и глагола [4, с. 53]. Ср.: бур. производные основы: тааха, таабари ~ таатай, таараха; тоо-лохо ~ тоохо; буха ~ бухаха; бүрин ~ бүрхѳѳхэ, бүреэhэн; зүй ~ зүйхэ, зүйдэл и т. д.; х.-м. таах, таавар ~ таатай, таарах; тоолох ~ тоох; тал ~ талах; бух ~ бухах; бүрэн ~ бүрэх, бүрхэх, бүрээс; зүй ~ зүйх, зүйдэл и т. д.; калм. таах , тавр ~ тааста , таарх ; тоолх ~ тоох ; бух ~ бухх ; бүрн ~ бүркх , бүрәсн и т. д.
В XX в. для бурятского языка особенно продуктивными были суффиксы, посредством которых образуются отвлеченные отглагольные и личные существительные (названия профессий, рода деятельности).
Л. Д. Шагдаров отмечает, что аффиксальный способ, наиболее продуктивный в начальный период становления бурятского литературного языка, уступает место составным образованиям и терминам-словосочетаниям: хэмэл одон ‘спутник’, үнэтэ зүйл ‘ценность’, эгээл дээдын хүсэтэй байлга ‘верховенство’, мэдэжэ эрхилэлгэ ‘ведение’, а также заимствованиям ‘статус’, ‘рейтинг’, ‘референдум’ и др. [13, с. 63 – 66].
В целом современные суффиксы, образующие существительные, соотносимы с их положением в старописьменном монгольском языке (СПМЯ). Семантика, функции исторических суффиксов вполне понятны, они развивались по законам сингармонизма, присущего монгольским языкам. Отличия между данными языками сводятся в основном к явлениям редукции гласных звуков. Сильнее всего редуцированы гласные в суффиксах калмыцкого языка. Бурятский язык имеет общую черту со старописьменным монгольским — полногласие, что не приводит к резкому отличию суффиксов этих языков. Особенностью монгольских суффиксальных морфем является то, что иногда одна и та же морфема может выступать и в качестве словообразующей, и в качестве словоизменительной. Например, некоторые падежные окончания (бур., х.-м. ухаан > ухаа тай , калм. ухан > ухата, где соответственно ум > с умом/умный), суффиксы множественного числа ( -тан — ахатан ) (бур., х.-м. оюун > оюу тан , где соотв. разум > студент, cэхээ > сэхээ тэн , где соотв. интеллект > интеллигент, интеллигенция).
Аффиксальный способ широко распространен в монгольских языках, с превалированием глагольного словообразования. Например, х.-м. хавчаар ‘скрепка’, ‘зажим’ от глагола хавчих ‘зажимать’ образовано при помощи суффикса - аар , старописьменная монгольская форма — qabčiyari — хавчих хэрэгсэл ; үдээс ‘степлер’ от глагола со значениями ‘простегивать’, ‘шнуровать’, ‘сшивать ниткой’ ( хана үдэх ‘прикреплять части юрты’) произведена при помощи суффикса - ээс , СПМЯ — üdegesü и т. д. В бурятском языке подобные новые понятия обозначаются заимствованиями с русского языка или англицизмами.
Некоторые суффиксы с течением времени «омертвели» и «слились» с корнем, и в настоящее время они воспринимаются как часть корня: калм. темдг , бур., х.-м. тэмдэг (исторический суффикс -* дэг ) и т. д. При сравнении старописьменного монгольского языка памятников можно заметить отсутствие или редкое использование суффиксов - лга/-лтэ, - лта/-лтэ, - 6ypu/6Ypu и некоторых др. в «Mongol-un Nigucha Tobchiyan» и их продуктивность в старобурятских памятниках XIX в.
Таким образом, монгольские языки отличаются богатством и разнообразием словообразовательных суффиксов, а выявление исторических морфем, в частности именных суффиксов, имеет важное значение в развитии исторического словообразования, в исследовании этимологии монгольских языков.
Список литературы К проблемам исторического словообразования существительных монгольских языков
- Бадмаева Л. Б. Языковое пространство бурятского летописного текста. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2012. 295 с.
- Болд Л. Орчин цагийн монгол хэлний дагавар. Улаанбаатар: Улсын хэвлэлийн га-зар, 1986. 134 х.
- Базаррагчаа М. Монгол үгийн гарлыг мѳшгѳх нь. I. Улаанбаатар, 1992. 183 х.
- Базаррагчаа М. Словообразование в древнемонгольском языке // Российско-монгольский лингвистический сборник / под ред. Г. Ц. Пюрбеева. М.: Институт языкознания РАН: Канцлер, 2015. С. 48–61.
- Монголой нюуса тобшо / Ч.-Р. Намжиловай оршуулга = Сокровенное сказание монголов / пер. С. А. Козина. Улаан-Yдэ : Буряадай номой хэблэл, 1990. 318 н.
- Самбуудорж О. Үгийн эртний хэлбэрийг сэргээн тогтооход нутгийн аялгуунуудын авианы тохирлын үүрэг // «Монгол туургатны эрт ба эдүгээ» олон улсын эрдэм шинжилгэ-эний V чуулган. Улаанбаатар: Монгол Улсын ШУА, МУБИС, Токиогийн Гадаад Судлалын Их сургууль, 2017. 98–100 тал.
- Орловская М. Н. Язык монгольских текстов XIII–XIV вв. М.: Институт востоковедения РАН, 2000. 182 с.
- Рассадин В. И. Очерки по морфологии и словообразованию монгольских языков. 2-е изд. Элиста: Изд-во КГУ, 2011. 239 с.
- Сусеева Д. А. К вопросу о словообразовательной парадигме в калмыцком и монгольском языках // Российско-монгольский лингвистический сборник / под ред. Г. Ц. Пюрбеева. М.: Институт языкознания РАН: Канцлер, 2015. С. 485–507.
- Харанутова Д. Ш., Сусеева Д. А., Ѳнѳрбаян Ц. Монгольское словообразование: структура и способы. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2012. 261 с.
- Харанутова Д. Ш. Словообразование бурятского языка. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2012. 240 с.
- Шагдаров Л. Д., Бадмаева Л. Б. Язык и стиль летописи Д.-Ж. Ломбоцыренова «История селенгинских монголо-бурят» (исследование, текст, транслитерация, перевод, переложение). Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2014. 216 с.
- Шагдаров Л. Д., Шагдарова Д. Л. Сложное слово в бурятском языке: монография. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2015. 250 с.
- Щербак А. М. Тюркско-монгольские языковые контакты в истории монгольских языков / Ин-т лингвист. исслед. РАН; Ин-т гуманитар. исслед. АН Республика Саха (Якутия). СПб.: Наука, 2005. 195 с.
- Mongol-un Nigucha Tobchiyan (Mongolian chronicle of 1240) / переложение Ц. Дамдинсурена. Ulan-Bator, 1947. 283 c.
- Большой академический монгольско-русский словарь: в 4 т. / отв. ред. Г. Ц. Пюрбеев. М.: ACADEMIA. Т. 1. А-Г. 486 с. 2001. Т. 2. Д-О. 507 с. 2001. Т. III. Ѳ-Ф. 438 с. 2001. Т. IV. Х-Я. 502 с. 2002.
- Кручкин Ю. Орос-монгол—монгол-орос орчин үеийн хэлний дэлгэрэнгүй толь бичиг. М.: АСТ: Восток-Запад, 2006. 921 с.
- Хальмг-орс толь. Би хальмг кел дасчанав. Ясврта, немртә2-гч hарц. / сост. Э. Ч. Бардаев [и др.] Элиста: Калм. кн. изд-во, 2004. 1016 с., Черемисов К. М. Буряад-ород толи: в 2 т. Рос. акад. наук, Сиб. отд., Ин-т монголоведения, буддологии и тибетологии. Улан-Удэ: Респ. тип19. Шагдаров Л. Д.., 2010.