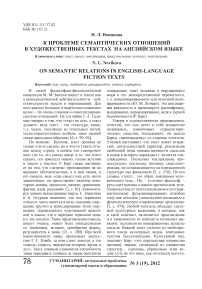К проблеме семантических отношении в художественных текстах на английском языке
Автор: Новикова Надежда Львовна
Журнал: Гуманитарий: актуальные проблемы науки и образования @jurnal-gumanitary
Рубрика: Междисциплинарные исследования: к постановке проблемы
Статья в выпуске: 3 (19), 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье речь идет об импликации как способе отражения причинно-следственных отношении в художественном тексте на английском языке. Автор рассматривает пресуппозицию как основу раскрытия буквального смысла высказывания.
Текст, смысл, импликация, пресуппозиция, контекст, экспликация
Короткий адрес: https://sciup.org/14720706
IDR: 14720706 | УДК: 811.111/37/42
Текст научной статьи К проблеме семантических отношении в художественных текстах на английском языке
В своей философско-филологической концепции М. М. Бахтин пишет о тексте как о непосредственной действительности – действительности мысли и переживаний. Для него каждое большое и творческое словесное целое – это очень сложная и «многопланная» система отношений. Не случайно Г.-Г. Гада-мер говорит о том, что «текст не есть, а текст думает», ведь текст – это «текстура, ткань, т. е. целое, состоящее из отдельных нитей, тесно переплетенных особым, лишь данной ткани присущим образом» [6, с. 90, 94].
По мнению Бахтина, текст призван не только что-то сказать, но и что-то утаить (чтение между строк), и понять это «неизреченное» (не то, что сказал автор, а то, что хотел сказать, его замысел) можно, только вступив в диалог с текстом. Р. Барт также настаивает на том, что «истина» произведения не во внешних обстоятельствах, а в нем самом, в его смысле, ведь «сам смысл уже есть нечто законченное, он представляет наличие некоторого знания, прошлого, памяти, сравнения, фактов, идей, решений» [3, c. 81]. Комментируя данное высказывание Барта, С. Неретина и А. Огурцов замечают, что под термином «смысл» здесь имеется в виду «касание, ощущение другого и транслирование этого ощущения, порожденного чувственной практикой, в мысль, что и передано термином sense (от лат. sensus)». Такое представление смысла, пишут ученые, может быть отождествлено со значением, которое, приобретая форму, редуцируется к знаку [21, с. 280]. При всей многозначности знака, продолжает дискуссию Г. С. Кнабе, за ним стоит денотат, а это «мысль, страсть, пережитая история, жизнь и дух». Здесь главным становится способность знака передавать стоящее за таким денотатом содержание, опыт человека и окружающего мира в его непосредственной пережитости, т. е. невыговариваемости или неполной выго-вариваемости (Ю. М. Лотман). Эта внезнако-вая реальность и провоцирует расшифровку, кодирование, перекодирование, ведя к дурной бесконечности (Р. Барт).
Говоря о художественном произведении, отметим, что оно несет в себе множество подвижных, изменчивых «трансисторических» смыслов, подлежащих, по мысли Барта, «производству» со стороны читателя. Ученый настаивает, что текст имеет открытый, деятельностный характер, реализация свободной игры множественности смыслов и кодов в котором порождает у читателя «наслаждение». Поскольку наслаждение процессуально, постольку желание, смыслопо-рождая, не останавливается на порожденной структуре как финальной [5, с. 510]. По его словам, «текст... это образ, анаграмма человеческого тела... Но, – уточняет философ, – речь идет именно о нашем эротическом теле. Удовольствие от текста несводимо к его грамматическому функционированию, подобно тому как телесное удовольствие несводимо к физиологическим отправлениям организма» [5, с. 474]. Любой читатель обладает системой культурных координат, в которые, как в свой контекст, включается произведение и в зависимости от контекста позволяет выявлять эксплицитно невыраженные аспекты смысла. Всякий текст сплетен из необозримого числа культурных кодов, впитанных текстом бессознательно. Культурный код, поясняет Барт, «это перспектива множества цитаций, мираж, сотканный из множества структур… единицы, образуемые этим кодом, суть не что иное, как отголоски чего-то, что уже было читано, видено, сделано, пережито: код является следом этого “уже”…» [4, с. 40]. В этом случае возникает необходимость адекватного понимания заложенных в художественном тексте смысловых потенций, их «раскодирования». Подобный опыт истолкования требует в свою очередь особого герменевтического процесса, позволяющего с помощью определенных процедур выявить семантический потенциал текста с учетом его общей интенциональности.
Итак, динамика текста обнаруживается с момента его порождения до проблемы возникновения смысла, а принципиальное понимание текста состоит в его открытости и множественности. Вслед за Лотманом будем утверждать, что именно художественный текст – это целостное, но незаконченное образование, а порождающее, динамическое, множественное; это не единство кода, а пересечение множества текстов, совокупность которых и составляет основу генерирования смысла. Поэтому изучение структуры художественного текста, связанной с его смысловым развертыванием и интерпретационной деятельностью читателя, пребывающего в творческом процессе порождения новых смыслов, представляет, с нашей точки зрения, особый интерес.
По справедливому замечанию известного современного филолога Г. А. Золотовой, потребность выразить мысль, содержанием которой является тот или иной аспект отношений реальной действительности, находит себе соответствующую форму выражения, модель предложения, существующую в данном языке, для обозначения данных отношений. Динамика смысла и статика языковой структуры заставляют авторов выйти за рамки лексико-синтаксических средств языковой системы. С наибольшей уверенностью интерпретировать высказывания и найти их коммуникативно-прагматический потенциал помогают актуализаторы, эксплицирующие скрытые смыслы. Более того, выявление скрытой, концептуальной и подтекстовой информации подчас важнее фактуальной информации, лежащей на поверхности. Ведь, становясь формой, объясняет Барт, смысл «опустошается, обедняется, история выветривается из него и остается одна лишь буква... возникшая в результате бедность содержания требует нового значения, которое заполнило бы эту опустошенную форму» [3, c. 81–82]. «Обедненный» смысл, которым форма «рас- поряжается по своему усмотрению», отодвигается на второй план. Философ сравнивает смысл с чем-то вроде хранилища конкретных событий, которое всегда находится под рукой для формы, но «прежде всего форма должна иметь возможность укрыться за смыслом», что свидетельствует о присутствии «вечной игры в прятки между смыслом и формой».
Наличие двух видов информации говорит о существовании в тексте двух пластов, или уровней, языкового выражения мысли – эксплицитного и имплицитного, обусловливающих двухмерную структуру текста. Имплицитные категории являются связующими элементами в тексте разного объема, включая и отдельные предложения. Но предложение, вырванное из контекста, не может выразить законченную мысль, так как оно само по себе не существует изолированно вне коммуникативной ситуации, которая воплощается в тексте. «Отдельные предложения, – по мысли Н. Д. Арутюновой, – интегрируются в синтаксический цикл, в котором эксплицируются и получают тонкое нюансирование смысловые связи между элементами сообщения, при этом большое значение приобретают логические по своему характеру отношения» [2, с. 23]. Именно к таким связям относятся причинно-следственные корреляции, в которых одно звено предполагает существование другого; каузальная связь существует не только между предметами и явлениями объективного мира, но и между мыслями о них. Но если философская интерпретация не связана непосредственно с языком, не ориентирована на лингвистические способы выражения, то логическая интерпретация этих отношений опирается непосредственно на лингвистический материал, т. е. объекты изучения логики не выражаются ни в какой форме, кроме форм языка.
По нашему убеждению, причинноследственная зависимость как разновидность отношений импликативного типа играет важнейшую роль в семантической организации предложения и текста. Любой текст обладает такими свойствами, как связность и линейность, что предопределяет движение, процесс изложения мыслей. Взаимодействие известной и новой информации в предложениях осуществляется языковыми элементами и грамматическими средствами, которые не только указывают на последующие текстовые единицы, но и отсылают к уже использованным в тексте средствам. Именно эта связность обеспечивает непрерывное движение текста, создавая его цельность и завершенность. «Изучать связный текст, – справедливо считает А. Т. Кривоносов, – значит изучать семантико-грамматические и, в конечном счете, логико-грамматические отношения» [15, с. 35]. Причинно-следственные отношения отличаются от других значимых синтаксических связей тем, что могут быть выражены как эксплицитно, так и имплицитно. Этот факт ставит исследование реализации причинно-следственных отношений в первые ряды проблем синтаксической семантики.
В большинстве исследований импликация рассматривается как категория текста, которая обусловливает его когерентность (Г. Грайс, Г. Газдар, С. Левинсон, Т. Николаева и др.). Несколько иначе трактуется подтекст в концепции И. Р. Гальперина, ставшей одной из самых популярных концепций текста в отечественной лингвистике. Особенно ценными моментами его концепции представляются разграничение фактуальной и концептуальной информации, разграничение подтекста как части семантической структуры текста и «подтекстовой» (имплицитной) информации и описание некоторых способов порождения подтекста [7]. Рассмотрение подтекста как прагматического эффекта, части прагматической структуры текста можно обнаружить в работах В. А. Кухаренко, который использует термин «импликация» для обозначения всех видов подразумевания. Давая «лингвистическое» определение подтекста как способа организации текста, ведущего «к резкому росту и углублению, а также изменению семантического и/или эмоционально-психологического содержания сообщения без увеличения длины последнего», автор пишет об особой «имплицитной манере письма», создающей значительную зависимость успеха коммуникативной задачи автора от осведомленности и сконцентрированности читателя [18, с. 181–182]. Исследователь различает импликацию предшествования, которая предназначена для создания «впечатления о наличии предшествующего тексту опыта, общего для писателя и читателя», и импликацию одновременности, цель которой – «создание эмоционально-психологической глубины текста, при этом полностью или частично изменяется линейно реализуемое смысловое содержание произведения» [18, с. 181–182].
Считаем необходимым развести понятия «импликация» и «подтекст», поскольку многие авторы подменяют одно другим. На наш взгляд, понятие импликации близко, но не тождественно понятию подтекста. Импликация охватывает множество подтекстных смыслов, в совокупности составляющих эту категорию текста. Подтекст представляет собой чрезвычайно важный компонент речевого смысла; подтекст необязательно является смыслом высказывания, но без подтекста нет смысла [8, с. 45]. Если текстовая импликация, создавая дополнительную глубину содержания, имеет ситуативный характер и ограничивается рамками предложения, сферхфразового единства, эпизода, отдельного коммуникативного акта, то в подтексте углубляется сюжет, более полно раскрываются основные темы и идеи текста. Вслед за С. М. Дорофеевой мы признаем, что подтекст – это не средство имплицирования информации, а результат этих действий. Таким образом, основной категориальной характеристикой импликации является возможность передачи большего объема значения, чем фактически обозначенный или выраженный при конвенциональном восприятии лингвистических единиц.
Разделение информации на эксплицитную и имплицитную, по мнению Е. Н. Стариковой, связано с асимметрией языкового знака, т. е. с наличием у языковой единицы плана выражения и плана содержания. Действительно, пишет Е. С. Кубрякова, языковая единица, чтобы обеспечить взаимопонимание, должна быть достаточно определенной и устойчивой и в то же время – достаточно гибкой и подвижной, чтобы обеспечить передачу новых смыслов [16, с. 102]. В связи с этим имплицитное содержание высказывания К. А. Долинин определяет как содержание, которое «прямо не воплощено в узуальных лексических и грамматических значениях языковых единиц, составляющих высказывание, но извлекается или может быть извлечено при его восприятии» [8, с. 40]. М. В. Никитин рассматривает имплицитные значения как «речевые эксплицитно не выраженные, некодифицированные значения, значения сверх собственного словарного значения языковых единиц и сверх регулярных правил их семантического комбиниро- вания и модификации», которые возникают в результате взаимодействия эксплицитных значений с обстоятельствами и условиями их речевой реализации [22, с. 163]. Г. Г. Молчанова под имплицитными значениями (структурами) понимает такие значения, «которые непосредственно не даны рассматриваемым языковым выражением, но предполагаются в нем, подсказываются им или окружающими его другими языковыми выражениями, выводятся из них посредством нашей интерпретации» [20, с. 19].
Довольно часто в лингвистической литературе термины «имплицитность» и «импликация» используются как взаимозаменяемые, что представляется не совсем корректным. И. В. Арнольд принимает следующую систему терминов: имплицитность как противоположность эксплицитности – это категория текста, возникающая при наличии текстовой импликации, т. е. логической структуры, содержащей «дополнительный подразумеваемый смысл (соответствующий консеквенту связки); вытекающий из соотношения сопо-ложных единиц текста (соответствующих антецеденту), но ими вербально не выраженный» [1, с. 84]. Имплицитность – понятие более широкое, чем текстовая импликация, так как последняя «ограничена рамками микроконтекста, что на композиционном уровне соответствует преимущественно эпизоду» [1, с. 85], а имплицитность охватывает весь текст. Имплицитная информация – это тот истинный (глубинный) смысл высказывания (текста), который полностью не выражен в «“ткани” текста, но который имеется в нем, может быть вскрыт и понят при обращении к конкретному анализу и ко всей ситуации общения, структуре общения» [12, с. 63].
Заметим, что понятие «импликация» в лингвистике не является устойчивым и опирается прежде всего на определение, существующее в логике, в основе которого лежит логическая операция, связывающая два высказывания в сложное высказывание с помощью логической связки, которой в обычном языке в значительной мере соответствует союз «если, …то»; «Если А, то В» [14]. В лингвистике имплицитная структура дает нам представление о какой-либо ситуации, например, А→В, где (А) – антецедент, (В) – консеквент. В результате прочных ассоциативных связей элементов этой ситуации появляется возможность не называть все компоненты ситуации, а только один из них, например антецедент (А), когда ситуация понятна собеседнику и он извлекает второй элемент (В) из состоявшейся части речевого сообщения, опираясь на ряд экстралингви-стических факторов.
Присоединяемся к лингвистическому определению импликации, данному Стариковой, согласно которому «импликация – прежде всего дополнительное невыраженное суждение, сопутствующее данному эксплицитному суждению, вопросу, побуждению» [23, с. 3]. Импликация предоставляет сведения, которые не имеют формального, эксплицитного выражения, а лишь подразумеваются, недаром имплицитные (импликативные) структуры называют «некомплектными», «с неполной поверхностной реализацией конституентов глубинной структуры» [23, с. 38]. Внесем уточнение к приведенному определению: имплицитными (импликативными) структурами мы будем называть такие, в которых соотношения причины и следствия не нашли эксплицитного выражения при помощи конкретных лексикосинтаксических средств, а познаются исключительно исходя из логико-семантического построения синтаксической единицы – предложения или текста.
Текст, имеющий смысл, определяется не отдельными элементами, а способами их сочетания (Ю. М. Лотман). Импликация как раз и вытекает из характера высказывания, обусловлена наличием тесных смысловых связей между его компонентами и определяется соположением частей. «Причинность. Первое, что нам бросается в глаза при рассмотрении движущейся материи – это взаимная связь отдельных движений отдельных тел между собою, их обусловленность друг другом» [19, с. 544]. Как видим, каузальные связи занимают особое место в смысловом развитии синтаксических единиц, при этом одним из способов реализации данных отношений выступает импликация.
I didn’t think that he would go to the police (B) – people like him aren’t fond of the police (A) (Christie A. Taken at the Flood). В данном примере имплицируется союз because:… (B) because people like him aren’t fond of… Свободное понимание имплицируемых связей происходит в результате того, что каждый человек получает в течение жизни определенные знания о реальной действительности и логической связи явлений, создается некий фонд подобных знаний. Большой объем информации постоянно присутствует в сознании, образуя пресуппозицию. Так, у всякого видимого и слышимого текста «возникает невидимый и неслышимый подтекст» [9, с. 221]. Чем более эксплицитно сообщение, тем меньше объем пресуппозиции, и чем выше имплицитность сообщения, тем шире пресуппозиционная часть. Это свидетельствует о том, что в тексте с преимущественно имплицитным способом выражения роль пресуппозиции будет увеличиваться.
В отличие от логической операции в лингвистике импликация и пресуппозиция предполагают либо эксплицитный антецедент (А), либо консеквент (В), и это предопределяет, с чем именно лингвист имеет дело – с импликацией (в лингвистическом понимании) или с пресуппозицией. Когда имеется эксплицитный антецедент, из него выводится имплицитный консеквент, при наличии эксплицитного консеквента мы знаем, что он выведен из пресуппозиции («В следует из А»). Так как А не дано нам в тексте (высказывании), мы сами выводим его (хотя и с достаточными основаниями), размышляя над тем, что имел в виду автор, если он ожидал правильного осмысления эксплицитного В. Поскольку и импликация, и пресуппозиция как понятия науки лингвистики есть результат нашего анализа, в обеих случаях мы сами делаем выводы (за автора – пресуппозиция, за читателя – импликация) и связываем эти понятия с двучленной логической формулой.
Понятие «пресуппозиция» исторически возникло в логике, а затем уже было заимствовано лингвистикой. Логики пришли к выделению пресуппозиций в высказываниях еще в прошлом веке, хотя точного определения пресуппозиций тогда не было. Для логиков характерно обращение к понятию «пресуппозиция», во-первых, при установлении истинностного значения предложения; во-вторых, при выделении разных типов логических отношений между предложениями; в-третьих, при рассмотрении прагматического фактора в логико-семантическом анализе предложений. Как видим, логики, в отличие от лингвистов, наряду с пониманием пресуппозиции как представления о существовании объекта и его единственности рассматривают пресуппозицию как особый вид логических отношений между высказываниями. Пресуппозиция в таком аспекте определяет- ся как разновидность отношения логического следования наряду с импликацией. Так, в логико-философских концепциях пресуппозиция определяется строго формально, изолированно от контекста и служит лишь средством установления «истинности значения предложения» и «разграничения разных типов логических отношений между предложениями» [2, с. 84]. Позиция слушающего и говорящего не учитывается.
В современной лингвистической литературе можно встретить употребление термина «пресуппозиция» в различных значениях. Один из основателей логической семантики Г. Фреге обратил в своей семантической теории внимание на пресуппозициональный аспект в логическом анализе смысла и значения предложения. Он предлагал различать то, что утверждается в высказывании, и то, что предполагается. Именно он привлек внимание логиков и лингвистов к выделению и изучению пресуппозиций, их роли и значения. Несомненной заслугой Фреге является выделение пресуппозиций в высказываниях, рассмотрение их функций в установлении наличия у высказывания истинностного значения. Б. Ван Фрассен анализирует понятие пресуппозиции с точки зрения отношений, возникающих между пресуппозицией и импликацией. Дж. Лаков использует пресуппозиции, рассматривая семантические связи в сложносочиненном предложении, а Б. Рассел фактически сводит понятие пресуппозиции к понятию единственно возможного следствия (entailment в английской терминологии).
Логические пресуппозиции не следует путать с лингвистическим понятием пресуппозиции. Пресуппозиция в таком понимании – это термин лингвистической семантики, обозначающий компонент смысла предложения, который должен быть истинным для того, чтобы предложение (высказывание) не воспринималось как семантически аномальное или неуместное в данном контексте. Назначением лингвистической пресуппозиции является раскрытие смысла того или иного высказывания для создания возможности более экономного описания некоторых синтаксических явлений.
Каузальная импликация определяется пресуппозицией и ее влиянием на отношения между антецедентом (А) и консеквентом (В). Представляя собой скрытый невыраженный компонент смысла высказывания, пре- суппозиция составляет пропозицию каузального высказывания в целом. Подчеркнем, что пресуппозиция не может существовать вне высказывания или вне какого-либо текста. И. В. Арнольд, исследуя импликацию как прием построения текста, отмечает, что неотделимость пресуппозиции от контекста приводит к ее естественному нахождению как в пределах окружающего текста, так и вне его. Следовательно, существуют два вида пресуппозиции: первый образует пресуппозиция, заключенная вне самого предложения, но в пределах окружающего текста. Второй вид составляют знания, накопленные коммуникантами до момента образования конкретного высказывания. С. Д. Кацнельсон указывает, на тот факт, что наряду с информацией, присутствующей в сознании говорящего или слущающего, в контексте могут содержаться достаточно четкие и недвусмысленные указания на этот счет [11, с. 83]. Охватывая и конкретную обстановку речевого акта, и характеристику партнеров, и их «горизонт», пресуппозиция определенным образом влияет на образование каузальных отношений. Например: Being an actress she was able to make her point (Christie A. Selected Stories). Имеется в виду, что, создавая тот или иной образ, все актрисы могут произвести «желаемый эффект». All actresses are able to make their point – пресуппозиция, которая не выражена в языке. Это причинноследственное предложение, имеющее прямой порядок следования частей (А) → (В). Другой пример: What I’ve just said sounds rather callous – I don’t mean that it was right that he died – actually we were very fond of him. But he’d been ill for some time (Christie A. Selected Stories). Предложение основывается на знании того, что болезнь может быть причиной смерти, т. е. здесь присутствует пресуппозиция (He died because he had been ill). Это следственно-причинное предложение: (В)→(А), где причина указывается в конце синтаксического комплекса. Понять эти предложения можно, опираясь на пресуппозицию (предварительное знание контекста или/и объектов реальной действительности), которая в свою очередь способствует выражению каузального значения предложения в имплицитной форме. Здесь прослеживается следующее соотношение между пресуппозицией и импликацией: пресуппозиция – буквальный смысл – импликация, т. е. пре- суппозиция выступает основой раскрытия буквального смысла высказывания.
Для выявления пресуппозиции, реализуемой в тексте, необходимо определить тот контекст, в котором она скрыта. Часто для раскрытия каузального значения в имплицитных структурах бывает недостаточно только узкого контекста (контекст предложения), поэтому приходится обращаться к макроконтексту, выходящему за рамки одного предложения, что необходимо для: разграничения причинно-следственных предложений и предложений с условной, уступительной, целевой семантикой; раскрытия смысла неполносоставных каузальных структур в окружающем контексте; наполнения определенным содержанием каузальных структур, которые в отрыве от текста могут казаться не отмеченными (Н. Т. Семеняко).
Возьмем предложение This surprises me (Gudenkauf H. “The Weight of Silence”). Если анализировать предложение как элемент текста, то мы увидим, что оно связано причинно-следственной связью с предыдущим предложением – She looks so frail there, and old, которое выступает причиной последующего предложения, где возможна постановка союза: … so this surprises me .
Через пресуппозицию семантический контекст присутствует в любом тексте, и в некоторой степени он маркирует границы текста, связи в котором приобретают уже не формальный характер, а смысловой [13, с. 73]. К смысловым, логическим связям и относится импликация. В имплицитной структуре ничто не пропускается, а домысливание не требует вставки слов, хотя может допускаться трансформация. Так, в следующем предложении: It seemed to me so sad in some way, looking back, I can see that it was simply hope (Gudenkauf H. “The Weight of Silence”) – с точки зрения смысловой завершенности высказывания ничего не опущено. С точки зрения экспликации содержания такого высказывания в синтаксической структуре сложного предложения отсутствуют маркеры его частей, что затрудняет выявление типа подобных отношений. Если в порядке трансформации ввести каузальный союз (as, because), выявляются эксплицитные причинно-следственные отношения: It seemed to me so sad in some way, because looking back, I can see that it was simply hope. Следствие предшествует причине. Для дока- зательства наличия причинно-следственных отношений предложения можно поменять местами: Looking back, I can see that it was simply hope so it seemed to me so sad in some way. Каузальное значение не изменяется. Это объясняется единой каузальной связью, распространяющейся на эти предложения. Разница проявляется лишь в способе обозначения каузальных отношений: для следственно-причинных отношений характерны маркеры because, as, since и т. д., для причинно-следственных – маркер so.
Итак, пресуппозиция и импликация служат смысловой организации текста. Как и импликация, пресуппозиция отвечает схеме А→В, в смысле «некоторого логического условия истинности предложения». Импликация служит созданию напряженности, экспрессивности, эмоциональности повествования. Пресуппозиция же ничего нового не несет в себе, т. е. «не рематична» [1, с. 87].
Так, в примере Even in her acting, he thought, Annabel is a sort of cheat, she acts from a sense of manners only (Spark M. “The Public Image Stories”) пресуппозицией выступает знание того факта, что все актеры должны играть искренне. Это положение известно всем и ничего нового не сообщает. При введении каузального союза … because she acts from a sense of manners only обнаруживаются следственно-причинные отношения. Пресуппозиция выступает семантической предпосылкой высказывания.
Анализ текстового материала показал, что импликация может лежать в основе проспективной и ретроспективной связи в каузальных высказываниях, различающихся по направлению развертывания причины и следствия. Если проспективная связь передает прямой порядок следования компонентов причина – следствие, то ретроспективная следствие – причина, т. е. обратный порядок следования.
He said it quietly – but Lynn looked up sharply. There had been something – behind those even tones (Christie A. Taken at the Flood). В данном примере устанавливается ретроспективная связь: следствие – причина. Автор начинает высказывание со следствия, а затем излагает причину, так как здесь важна реакция собеседника, а не ее причина. Эти предложения связаны имплицитной каузальной связью, вытекающей из соотношения со-положенных предложений.
Еще пример: The Charles River is a holy spot for regatta racing, and there is always someone rowing on the river (A). I like to race them (B) (Murakami H. “What I Talk about When I Talk About Running”). Это предложение с каузальной импликацией характеризуется проспективной связью, где сначала сообщается причина действия, поступка, а затем уже результат данной причины (А→В).
Исследуя предложения с каузальной импликацией, следует упомянуть, что в лингвистике имплицитность понимается в узком и широком смысле. Это разграничение важно для более точного анализа смысла каузального высказывания. В широком понимании им-плицитность представляет собой категорию текста, которая извлекается из всего текста или же из микротекста (СФЕ, диалогические единства, абзац), границы которого определяются ситуацией, описанной в тексте. Это «экстралингвистическое явление» [24, с. 109], охватывающее вопросы, связанные с имплицитной пресуппозицией, «фоновыми знаниями», характеристикой партнеров и т. д. Для Арнольда, который определяет эту импликацию как «текстовую», это «заранее заданный дополнительный смысл, который слушатель или читатель должен уловить» [1, с. 84], т. е. несет в себе важную коммуникативную нагрузку всего текста, являясь «ключом» к правильной его интерпретации. Импликация в данном случае является частью смысла отрывка текста, а не отдельного предложения. Проиллюстрируем это положение примером из нашего материала: Frances poured a little coffee into the cup. It was strong and hot. She said to Edna, crisply and approvingly: “Excellent, Edna!” Edna went crimson with pleasure and went out marvelling nevertheless at what some people liked. Coffee, in Edna’s opinion, ought to be a pale cream colour, even so sweet with lots of milk (Christie A. Taken at the Flood).
Отрезок содержит ситуацию с причинноследственной зависимостью. Если, например, изолировать от общего контекста предложение Edna went crimson with pleasure and went out marvelling nevertheless at what some people liked, смысл высказывания будет непонятен. Для понимания всего высказывания необходимо уточнение причины испытываемых персонажем эмоций. Из более широкого контекста выясняется, что причиной удивления служанки является утверждение coffee ought to be a pale cream colour… Таким образом, в данном случае каузальная импликация извлекается из микротекста – сверхфразового единства.
Итак, мы видим, что за одним предложением стоит целая ситуация, следовательно, экспликация подразумеваемого содержания в данном случае оказывается обязательной.
Имплицитность в узком смысле – явление «чисто языковое, грамматическое» [24, с. 109], основанное на несоответствии плана содержания плану выражения. В отличие от текстовых импликаций языковые импликации обнаруживают более прочную смысловую спаянность отрезков текста. Опорой подобных импликаций является совокупность семантики слов и конструкций, поскольку имплицируемая информация не находит непосредственного эксплицитного выражения в тексте. Например: No matter how great a workhorse I might have been (А), I never would have been able to make it on my own (В) (Murakami H. “What I Talk about When I Talk about Running”). Чтобы понять смысл данного следственно-причинного предложения, нет необходимости конкретизации какого-либо факта, «фоновые знания» тоже здесь не имеют большого значения, однако корреляция смыслов частей предложения позволяет считать, что это семантически завершенное каузальное предложение, где налицо причина (А) и следствие (В) – (В)→(А). Коррелируют здесь, видимо, слово и выражение, связанное с восприятием героем своих возможностей и способностей. Введение союза подтверждает указанные отношения: … because I never would have been able to make it on my own. В любом каузальном высказывании, состоящем из причины (А) и следствия (В), причина выступает как наличное, следствие же есть нечто возникающее (Я. Р. Аскин), в микротексте или в отдельном предложении следствие всегда опирается на причину.
Подводя итог обсуждению соотношения пресуппозиции и импликации, отметим, что пресуппозиция – общий индикатор импликации, способствующий пониманию имплицитного значения, заключенного в предложении (тексте). Наличие пресуппозиции в тексте есть такое его свойство, которое «является производным от мышления, сознания, то есть фактов, находящихся в первую очередь в мозгу человека» [15, с. 34]. Слушающий или читающий обычно приписывает сам сообщению некое содержание, извлекая его элементы из своих «фоновых знаний».
Следует учитывать, что нечто утверждаемое в предложении может нести на себе отпечаток отношения говорящего. Например: … She really is a nice girl. I know all her family: very honest and superior (Christie A. Selected Stories). Здесь налицо субъективное отношение говорящего к девушке на основании знания семьи, т. е. устанавливается «субъектно-логическая причинноследственная зависимость» (Н. Д. Арутюнова). Пресуппозцией является утверждение a child is nice if her (his) family is very honest and superior , которое не выражено языковыми средствами, но подразумевается. Но не всегда у честных родителей растут хорошие дети. Следовательно, второе предложение – I know all her family: very honest and superior – не может быть основой для первого предложения She really is a nice girl . Все же в этом синтаксическом единстве можно усмотреть имплицитность причины, хотя трансформация введения каузального союза because I know all her family … выглядит несколько неестественно. Данное предложение показывает, что определенная ситуация, отраженная человеческим сознанием, перерабатывается в виде логической операции, в результате которой получается определенное суждение.
Таким образом, импликация – это один из способов передачи каузальных отношений, лежащих в основе взаимообусловленности процессов объективной действительности. Эти явления, процессы, отражаясь человеческим сознанием, фиксируются совокупностью лингвистических средств, которые соотнесены с явлениями и предметами действительности через мышление и его категории.
На свете нет человека, который сумел бы построить (породить) то или иное повествование без опоры на имплицитную систему исходных единиц и правил их соединения [4, с. 355]. И импликация, и пресуппозиция служат смысловой организации текста, выступая в роли «некоторого логического условия истинности предложения» (И. В. Арнольд). Будучи взаимозависимыми явлениями, они представляют собой различные семантические аспекты текста в том плане, что обусловленная контекстом пресуппозиция оказывается необходимой для раскрытия содержания, составляемого импликацией, поэтому в плане линейного расположения пресуппозиция всегда предшествует высказыванию, а импликация следует за ним.
Список литературы К проблеме семантических отношении в художественных текстах на английском языке
- Арнольд И. В. Импликация как прием построения текста и филологического изучения/И. В. Арнольд//Вопр. языкознания. -1982. -№ 4. -С. 83-92.
- Арутюнова Н. Д. Предложение и его смысл: логико-семантические проблемы/Н. Д. Арутюнова. -М.: Наука, 1976. -383 с.
- Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика: пер. с фр./Р. Барт; сост., общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. -М.: Прогресс, 1989 -616 с.
- Барт Р. Нулевая степень письма: пер. с фр./Р. М. Барт. -М.: Академ. Проект, 2008. -431 с.
- Барт Р. Удовольствие от текста/Р. Барт//Барт Р. Избранные работы: Семиотика: Поэтика. -М., 1989. -С. 462-518.
- Гадамер Г.-Г. Философия и литература/Г.-Г. Гадамер//Филос. науки. -1989. -№2. -С. 83-97.
- Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования/И. Р. Гальперин. -М.: Наука, 1981. -139 с.
- Долинин К. А. Имплицитное содержание высказывания/К. А. Долинин//Вопр. языкознания. -1983. -№ 4. -С. 39-45.
- Звегинцев В. А. Предложение и его отношение к языку и речи/В. А. Звегинцев. -М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. -370 с.
- Золотова Г. А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса/Г. А. Золотова. -6-е изд. -М.: Эдиториал УРСС, 2010. -368 с.
- Кацнелъсон С. Д. Типология языка и речевого мышления/С. Д. Кацнельсон. -Л.: Наука, 1972. -216 с.
- Кожина М. Н. Соотношение стилистики и лингвистики текста/М. Н. Кожина//Филол. науки. -1979. -№ 5. -С. 62-68.
- Колшанский Г. В. О понятии контекстной семантики/Г. В. Колшанский//Теория языка. Англистика. Кельтология. -М., 1976. -С. 69-76.
- Кондаков Н. И. Логический словарь-справочник/Н. И. Кондаков. -М.: Наука, 1975. -720 с.
- Кривоносов А. Т. «Лингвистика текста» и исследование взаимоотношения языка и мышления/А. Т. Кривоносов//Вопр. языкознания. -1986. -№ 6. -С. 23-37.
- Кубрякова Е. С. Номинативный аспект речевой деятельности/Е. С. Кубрякова. -М., 1986. -158 с.
- Кухаренко В. А. Типы и средства выражения импликации в английской художественной прозе (на материале прозы Хемингуэя)/В. А. Кухаренко//Филол. науки. -1974. -№ 1. -С. 69-74.
- Кухаренко В. А. Интерпретация текста/В. А. Кухаренко. -Л.: Просвещение, 1979. -327 с.
- Маркс К. Диалектика природы/К. Маркс, Ф. Энгельс//Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. -2-е изд. -Т. 20. -С. 343-626.
- Молчанова Г. Г. Семантика художественного текста/Г. Г. Молчанова. -Ташкент: Изд. ФАН Узб. ССР, 1988. -244 с.
- Неретина С. Время культуры/С. Неретина, А. Огурцов. -СПб.: Изд-во РХГИ, 2000. -344 с.
- Никитин М. В. Основы лингвистической теории значения/М. В. Никитин. -М.: Высш. шк., 1988. -358 с.
- Старикова Е. Н. Имплицитная предикативность в современном английском языке/Е. Н. Старикова. -Киев: Вища шк., 1974. -141 с.
- Шендельс Е. И. Имплицитность в грамматике/Е. И. Шендельс//Сборник научных трудов Московского государственного педагогического института иностранных языков им. М. Тореза. -1977. -Вып. 112. -С. 109-123.