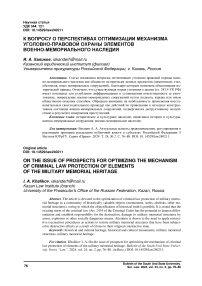К вопросу о перспективах оптимизации механизма уголовно-правовой охраны элементов военно-мемориального наследия
Автор: Халиков И.А.
Журнал: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право @vestnik-susu-law
Рубрика: Уголовно-правовые науки
Статья в выпуске: 2 т.24, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена вопросам оптимизации уголовно-правовой охраны военно-мемориального наследия как общности исторически ценных предметов (памятников, стел, обелисков, иных мемориальных сооружений), благодаря которым возможна объективация исторической правды. Отмечено, что существующая норма уголовного закона (ст. 243.4 УК РФ) имеет потенциал для углубления дифференциации и установления ответственности за уничтожение, повреждение военно-мемориальных сооружений путем поджога, взрыва или иным общественно опасным способом. Обращено внимание на необходимость применения восстановительных (воссоздательных) процедур как действий по приведению в исходное конструктивное состояние военно-мемориальных сооружений, подвергшихся деструктивному воздействию в результате совершения преступлений.
Историческое и культурное наследие, памятники истории и культуры, военно-мемориальные сооружения, военно-мемориальное наследие
Короткий адрес: https://sciup.org/147243675
IDR: 147243675 | УДК: 344. | DOI: 10.14529/law240211
Текст научной статьи К вопросу о перспективах оптимизации механизма уголовно-правовой охраны элементов военно-мемориального наследия
Сохранение памятников защитникам Отечества, расположенных как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, является важным направлением осуществления внутренней и внешней политики государства. Президент Российской Федерации В. В. Путин, выступая 9 мая 2023 г. на параде в ознаменование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, отметил, что в настоящее время за пределами территориальных границ нашего государства безжалостно и хладнокровно разрушаются мемориалы советским воинам, сносятся памятники великим полководцам, создается настоящий культ нацистов и их пособников, а память о подлинных героях пытаются стереть и оболгать. Такое надругательство над подвигом и жертвами победившего поколения - преступление, совершаемое в целях распада и уничтожения России [4].
В этой связи особое значение приобретает потребность в оптимизации созданного уголовно-правового инструментария (ст. 243.4 УК РФ), способного в комплексе с принимаемыми со стороны государства внутриполитическими и внешнеполитическими мерами обеспечить сохранение рассматриваемой общности предметов, поскольку благодаря памятникам, стелам, обелискам, другим мемориальным сооружениям, объектам, увековечивающим память погибших при защите Отечества или его интересов либо посвященным дням воинской славы России, происходят легитимация власти и презентация идеологически выверенной исторической информацию, способной оказать влияние на формирование национально-культурной идентичности.
Так, существуют отдельные требующие дифференциации обстоятельства, оставленные законодателем без внимания в процессе криминализации противоправного деяния, предусмотренного ст. 243.4 УК РФ. Актуальным является вопрос отнесения к числу квалифицированных (привилегированных) действий по уничтожению (повреждению) военно-мемориального сооружения путем поджога, взрыва или иным общественно опасным способом. Это обусловлено тем, что подобная форма преступного поведения не была отдельно учтена законодателем, хотя ее исключительная общественная опасность, а также типичность не вызывают сомнений. Парадоксально, но ответственность за уничтожение путем поджога, взрыва чужого имущества, лишенного особых аксиологических качеств, которыми обладают военно-мемориальные сооружения, более высокая. Так, общая норма уголовного закона - ч. 2 ст. 167 УК РФ - отнесена к преступлениям средней тяжести; неквалифицированный состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 243.4 УК РФ, отнесен к преступлениям небольшой тяжести. По ч. 2 ст. 167 УК РФ может быть квалифицировано преступление, совершенное при отсутствии объективных признаков состава преступления, предусмотренного ст. 243.4 УК РФ, то есть без учета особых черт, характеризующих предмет преступного посягательства. Изложенное свидетельствует о том, что правоприменитель оказался лишен возможности квалификации противоправных действий злоумышленника, совершенных в отношении элемента военно-мемориального наследия путем поджога, взрыва или иным общественно опасным способом. Как следствие, была нивелирована более высокая степень общественной опасности преступления в отношении предметов материального мира, имеющих особое историко-культурное значение.
Российское историческое общество (РИО) и Российское военно-историческое общество (РВИО) с 2012 года активно участвуют в формировании военно-мемориального ландшафта России. Их деятельность направлена на «противодействие попыткам фальсификации истории в ущерб интересам нашего государства» [2]. Одно из направлений деятельности РВИО - «монументальная пропаганда», в качестве которой рассматривается деятельность по «сохранению и восстановлению, включая воссоздание, реконструкцию и реставрацию, всех видов и наименований памятников военной истории России, направленная на воспитание патриотизма и противодействие попыткам искажения отечественной военной истории» [3].
Наравне с потребностью в сохранении военно-мемориального наследия во всем его многообразии восстановление поврежденных, воссоздание утраченных памятников в исходном конструктивном и аксиологическом состоянии следует признать одной из факультативных, дополнительных целей уголовноправовой политики в исследуемой сфере, от достижения которой может зависеть эффективность осуществления данной политики.
Характер и содержание восстановительных (воссоздательных) процедур делают воз- можным их изучение в качестве мер по приведению поврежденного, разрушенного военно-мемориального сооружения в исходное конструктивное и аксиологическое состояние, а также как диалога между участниками возникших правоотношений о путях преодоления последствий совершенного преступления. При этом следует отметить, что применение восстановительных процедур для минимизации последствий исследуемого преступления необходимо. В то же время эти процедуры не способны подменить, заменить уголовнопроцессуальные отношения, делая востребованной оценку допустимости их реализации по отношению к каждому конкретному противоправному акту.
По мнению зарубежных ученых, кризис института уголовной ответственности находит свое отражение в отсутствии возможности его должного обоснования с позиции возмездия, а также практической ценности для общества [7]. Как следствие, становится привлекательной реализация альтернатив наказанию в виде реституционных мер (reverse context). Во многом от восстановления прав, нарушенных в результате совершения преступления, зависит эффективность применения уголовно-правовых предписаний [6]. Применительно к военно-мемориальным сооружениям это возможность их восстановления за счет лиц, совершивших преступления, либо переложения указанного бремени на представителей органов государственной власти, допустивших уничтожение (повреждение) представляющего мемориальную ценность сооружения (памятника).
-
Х. Зер, исследуя природу восстановительного правосудия, отметил: «...возмещение вреда - ядро правосудия. Возмещение вреда - отнюдь не второстепенная или ненужная задача. Это обязательство. Решение о возмещении вреда содержит в себе послание: «Не совершайте преступлений, поскольку они причиняют вред людям. Тому, кто причинит вред другим, придется исправить содеянное»» [1, с. 97].
-
Х. Зер рассматривает восстановительное правосудие как альтернативу действующей системе уголовного судопроизводства, что неприемлемо для уголовно-правовой доктрины Российской Федерации. Применительно к отечественной правовой действительности справедливо замечание В. Д. Филимонова, который отметил, что «возмещение ущерба
представляет собой восстановление социальной справедливости, нарушенной в результате попрания преступлением гражданско-правовых и иных отношений. Уголовно-правовое восстановление нарушенной преступлением социальной справедливости всегда достигается только на основе компенсации причиненного вреда соразмерного преступлению тяжестью назначенного судом наказания, а также через применение иных мер уголовно-правового характера» [5, с. 103]. Таким образом, указанный институт факультативен уголовному процессу: это дополнительная возможность достижения целей уголовно-правовой политики государства посредством применения специальных восстановительных процедур. Допустимость их осуществления применительно к памятникам защитникам Отечества или его интересов предусмотрена в нормах международного права.
Так, в п. 27 Рекомендаций ЮНЕСКО «О сохранении культурных ценностей, подвергшихся опасности в результате проведения общественных или частных работ», принятых 17 октября 2003 г. на Генеральной конференции ООН по вопросам образования, науки и культуры, обращено внимание на востребованность включения в национальное законодательство стран, входящих в указанную международную организацию, обязательности восстановления участка местности или сооружения за счет тех, кто несет ответственность за ущерб, причиненный в результате противоправных действий. Это признано факультативной мерой ответственности по отношению к лицам, преднамеренно или по халатности нарушившим положения, касающиеся сохранения или спасения культурных ценностей, поставленных в опасность в результате проведения общественных или частных работ. Документ не противоречит Основным принципам применения программ реституционного правосудия ООН, разработанным на основе резолюции Экономического и Социального совета ООН, принятой 24 июля 2002 г. № 2002/12, в соответствии с которыми на международном уровне осуществляется регламентация деятельности указанного правового института.
В проводимом исследовании необходимо отдельно оценить перспективы углубления дифференциации уголовной ответственности за антиобщественные действия, направленные на искажение исторической правды. Подобная законодательная инициатива возникла после криминализации деяния, предусмотренного ст. 243.4 УК РФ (законопроект № 963440-7). Так, 27 мая 2020 г. в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации был внесен законопроект, предлагающий установить уголовную ответственность за фальсификацию исторических фактов о причинах и итогах Второй мировой войны (ст. 354.2 УК РФ). В пояснительной записке было отмечено, что рядом восточноевропейских стран инициирована информационная компания, направленная на фальсификацию исторических фактов о причинах и итогах Второй мировой войны. Было отмечено, что в результате принятия 19 сентября 2019 г. Европейским парламентом резолюции «О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы» была выстроена парадигма «идеологического единства тоталитарных обществ», нивелировавшая различия между преступным национал-социализмом в Германии и официальной государственной идеологией, существовавшей в СССР. В мае 2023 года законопроект был отклонен. В обоснование принятого решения было указано, что в соответствии со ст. 354.1 УК РФ
«Реабилитация нацизма» уже предусмотрена ответственность «за отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных этим приговором, и распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны»; соответственно, действующая и проектная нормы уголовного закона окажутся конкурирующими.
На примере нереализованной законодательной инициативы может быть продемонстрирована ориентация уголовно-политического курса государства в сторону создания уголовно-правовых предписаний, способных оказать противодействие искажению исторической правды и ее фальсификации. Самостоятельным и последовательным шагом в указанном направлении может стать использование в законодательной деятельности предложений по оптимизации содержания ст. 243.4 УК РФ, поскольку военно-мемориальное наследие – это наиболее эффективное средство объективации отечественной истории, исключения возможности ее фальсификации.
Список литературы К вопросу о перспективах оптимизации механизма уголовно-правовой охраны элементов военно-мемориального наследия
- Зер Х. Восстановительное правосудие: новый взгляд на преступление и наказание. М.: Изд-во МОО Центр "Судебно-правовая реформа", 2002. 328 с.
- Лапин Р. В. Российское историческое общество (РИО) и Российское военно-историческое общество (РВИО) как инструменты исторической политики первой четверти XXI века // Политика памяти в современной России и странах Восточной Европы: акты, институты, нарративы. СПб., 2020. С. 74-95.
- Монументальная пропаганда. URL: https://rvio.histrf.ru/projects/monumental-promotion? ysclid=lmrod81lpl618595518.
- Парад Победы на Красной площади. URL: kremlin.ru/events/ president/ transcripts/71104.
- Филимонов В. Д. Генезис уголовно-правового регулирования: монография. М.: Изд-во Норма; ИНФА-М, 2019. 128 с.
- Boonin D. The Problem of Punishment. Cambridge University Press, 2012. URL: https://cambridge.org/core/books/problem-of-punishment/5DBC9B354BB 574F589902D95FA49A2AE.
- Materni M. Criminal Punishment and the Pursuit of Justice // British Journal of American Legal Studies. 2013. Vol. 2. P. 263-304.