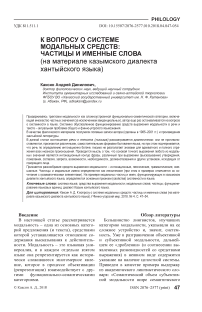К вопросу о системе модальных средств: частицы и именные слова (на материале казымского диалекта хантыйского языка)
Автор: Каксин Андрей Данилович
Журнал: Финно-угорский мир @csfu-mrsu
Рубрика: Филологические науки
Статья в выпуске: 4 т.10, 2018 года.
Бесплатный доступ
Придерживаясь трактовки модальности как сложноустроенной функционально-семантической категории, включающей множество частных значений (за исключением эвиденциальных), автор еще раз останавливается на вопросе о системности в языке. Системно обусловленное функционирование средств выражения модальности в речи и тексте - актуальная проблема общего и финно-угорского языкознания. В качестве фактического материала послужили полевые записи автора (сделаны в 1985-2001 гг.) и произведения хантыйской литературы. В данной статье соотношение речи и текста (письма) рассматривается диалектически: они не противопоставляются, признаются различными, самостоятельными формами бытования языка, но при этом подчеркивается, что речь по определению интонационно богаче: письмо не располагает знаками для адекватного и полного отражения всех нюансов произношения. Проводится мысль о том, что основой точного выражения любого из модальных значений является интонационный контур фразы, различный при выражении (высказывании) утверждения, пожелания, согласия, запрета, возможности, необходимости, долженствования и других установок, исходящих от говорящего лица. Признается разнообразие средств выражения модальности - интонационные, лексические, грамматические, смешанные. Частицы и модальные имена определяются как лексические (при этом в примерах отмечается их сочетание с грамматическими элементами). На примере модальных частиц и имен, функционирующих в казымском диалекте хантыйского языка, определяются основные признаки (свойства) системности в языке.
Система языка, средства выражения модальности, модальные слова, частицы, функционирование языковых единиц, диалект казым хантыйского языка
Короткий адрес: https://sciup.org/147217891
IDR: 147217891 | УДК: 811.511.1 | DOI: 10.15507/2076-2577.010.2018.04.047-054
Текст научной статьи К вопросу о системе модальных средств: частицы и именные слова (на материале казымского диалекта хантыйского языка)
В настоящей статье рассматривается модальность – одна из основных категорий предложения (и текста), средствами которой устанавливается отношение содержания высказывания к действительности. Модальность – это языковая универсалия, и в каждом отдельно взятом языке она репрезентируется как исторически сложившееся многомерное явление, которое в процессе объективации (репрезентации) взаимодействует с другими функционально-семантическими категориями.
Обзор литературы
Большинство лингвистов, изучавших категорию модальности, указывали на ее сложное устройство и, значит, системность. Уже в разграничении объективной и субъективной модальности, дальнейшем ее «дроблении» (и соотнесении выявленных разновидностей со средствами выражения) в неявном виде содержится указание на наличие целостной системы. Приведем в качестве примера выдержку из академического лингвистического словаря: «Семантический объем субъективной модальности шире семантического
ISSN 2076–2577 (print) 47
® ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ объема объективной модальности; значения, составляющие содержание категории субъективной модальности, неоднородны. …Средства субъективной модальности функционируют как модификаторы основной модальной квалификации, выраженной глагольным наклонением…»1.
Авторы коллективной работы, выполненной в русле функционально-семантической грамматики (А. В. Бондарко и др.), также придерживаются широкой трактовки модальности, включая в эту сферу все выявленные ими типы модальных значений (исключая только значение утверждения / отрицания). Широко понимать модальность в данном случае помогает теория поля, в котором выделяются ядро и периферия. Далее в этой модели функциональной грамматики на передний план выдвигается анализ типовых категориальных ситуаций в их многоступенчатой вариативности. Разумеется, все связи и отношения при таком подходе рассматриваются как системные [6, 59–243 ].
Вот как о глаголе (формы которого в первую очередь связаны с выражением модальности), после замечаний о системности языка в целом, писала выдающийся лингвист М. И. Черемисина: «Глагольное слово, в большинстве языков четко противопоставленное имени существительному, являет собою… сложную систему систем. Подсистемами этой системы являются группы форм, соответствующие каждой грамматической категории»2.
В финно-угорском языкознании данный вопрос также достаточно разработан. В частности, Д. В. Цыганкин особо подчеркнул сложность, многомерность финно-угорских литературных языков: «Одно из главных их достоинств – многообразие системы выразительных средств для передачи тончайших оттенков мыслей и чувств» [7, 183 ].
Вопросы, связанные с выражением модальности в хантыйском языке, уже были в центре внимания лингвистов [2; 3; 4; 5; 8; 9 и др.], хотя проблему системности они специально не выделяли.
Материалы и методы
Фактическим материалом служат наши полевые записи 1985–2001 гг. и произведения хантыйской литературы. Основным для данного исследования является описательный метод. В его рамках осуществлено построение адекватной терминологической парадигмы (с целью применения к материалу преимущественно разговорного языка). Другими методами исследования послужили: метод наблюдения, метод контекстуального анализа.
Результаты исследования и их обсуждение
Частицы в системе модальных средств в хантыйском языке
В хантыйском языке, как и во всех других языках, модальная система сложна и многообразна; в ней находят выражение все типы модальных значений, в том числе абсолютной и сравнительной оценки (аксиологические модусы), запретного и разрешенного (деонтические модусы), желательного и нежелательного (оптативные модусы), возможного и невозможного (алетические модусы), известного и неизвестного (эпистемиче-ские модусы). Важно заметить, что часто в контексте проблем модальности обсуждаются эпистемические значения известного и неизвестного, которые при другом взгляде выводятся из модальной сферы и рассматриваются как образующие отдельную категорию – категорию эвиден-циальности.
В отношении хантыйского языка мы придерживаемся последней точки зрения, т. е. эвиденциальные значения рассматриваем отдельно, как составляющие другой категории. При выделении модальных значений за инвариант принимается объективная модальность – значения времени и реальности / ирреальности, заключенные в замкнутой системе аб- страктных синтаксических категорий времени и наклонения. Затем к ним относятся субъективно-модальные значения, которые выражают отношение говорящего к содержанию высказывания. Все виды модальности соотносятся со средствами различных уровней языка – интонацией, лексикой, синтаксическими конструкциями и т. д.
Очевидно, что любое из значений субъективной модальности можно выразить лексическими средствами того или иного языка. Кроме модальных глаголов и предикативов в каждом языке имеется достаточное количество модальных лексем, относящихся к другим частям речи, но больше всего бывает неизменяемых слов, часто – сложносоставных, именуемых в грамматике частицами. Системность языка проявляется и в том, что большинство этих единиц – полифункциональные: у них, безусловно, есть основная функция, но они же, в соответствующем контексте, могут иметь иное значение (выполнять иную роль). Вот как комментируется один из случаев употребления отрицательной частицы арась ‘нет’ в эрзянском языке: «В этом примере частица арась “нет” вносит в предложение значение отрицания, несогласия и выполняет синтаксическую функцию смены модального плана повествования. Она выражает непосредственно авторскую, эмоциональную окраску высказываемого, вносит значение разду-мья^» [1, 31 ].
Модальные частицы разнообразны по значению. Выделяются следующие основные семантические группы модальных частиц хантыйского языка.
-
1. Частицы, выражающие сомнение и / или определенную уверенность: wsrapa ‘вряд ли’, met ‘хоть; хоть так; если так’ и др. Например: werapa motorl sukalas ‘вряд ли мотор сломался’, tamxatl ja werapa jerta jil ‘сегодня-то вряд ли пойдет дождь’; met sopay, muxsaylal wujayat in ‘хорошо хоть, что муксуны жирные нынче’, met xontti, ma isi juxtijllum ‘если так, я тоже как-нибудь зайду’.
-
2. Частицы, выражающие неуверенность или недоверие: xutas ‘что-то’, peli ‘ли; вроде’, j'ina peli ‘точно ли’ и др. На-
- PHILOLOGY
-
3. Частицы, выражающие предположение: si anto ‘вероятно, может быть’, al ‘наверное, может быть’ и др. Например: si anto, norum sopa sosumsayan ‘может быть, и через болото пошагали’; al manas in utem, ma luwtti!.. ‘наверное, пошел он, мой любезный, (вот) я его!..’.
-
4. Частицы, выражающие убежденность (при поддержке соответствующей интонацией), а также удивление, восхищение: si! ‘ну конечно, несомненно, вот же (!)’, xon! ‘конечно, конечно не (!)’, anxon! ‘конечно (!)’, mana! ‘ты смотри-ка (!)’ и др. Например: si, in jam sajem jansemum! ‘ну конечно, чай мой замечательный выпили!’, si pa multijlmen nay, si xurasup utem wolmen! ‘вот же каким ты уродился, мой хороший, ненаглядный!’; lйw simas xon, jam-atum xotl si tajlalle ‘она не такая, конечно: плохо ли – хорошо ли, дом содержит’; pa si luplum, anxon, luw nuxtatala, luw nemalt ant tistal! ‘снова говорю: конечно, он и пустится в дорогу, ему все нипочем!’; mana, muj kem sos wonta omasmew! ‘смотри-ка, до какого часа сидели!’.
-
5. Частицы, выражающие пожелание или безразличное отношение к выбору: kesi ‘ради’ (совпадает с послелогом, обычно употребляется форма 1-го лица), at loly ‘хоть бы’, loly ‘бы; что бы не’ и др. Например: ma kesi isa at ul ‘по мне, все время пусть спит’, ma kesama al pa juxatl ‘по мне, пусть и не приходит’; at loly manl ‘хоть бы ушел’, at loly wujumla ‘хоть бы уснул’; lйw loly xoxat'l'al ‘что бы ему не сбегать’, nay loly wantlen ‘тебе бы посмотреть его’.
-
6. Частицы, выражающие допущение, позволение: at ‘пускай, пусть’, at kaj ‘да пусть’ и др. Например: at omasl ‘пускай сидит’, at ul ‘пусть спит’, at ayseml ‘пусть обзывается’; at kaj jertlajum, isimurt tamxatl posantijlti ‘да пусть меня дождем намочит, все равно сегодня стирать придется’.
-
7. Частицы, выражающие побуждение к действию: săr ‘-ка’, ja ‘же’ и др. Эти частицы употребляются, как правило, после императивных форм и обычно вносят оттенок нетерпеливого, усиленного побуждения, например: omsa săr ‘сядь-ка’, wŭje săr ‘возьми-ка его’; măna ja ‘иди же’, katłe ja ‘держи же его’.
пример: tamxatlxutas melak ‘сегодня что-то тепло (более тепло, чем ожидалось)’, lйw xutas tamxatl keyk ‘он что-то сегодня строгий (что непохоже на него)’; luw peli sata lol' ‘не он ли там стоит’; j'inapeli saxa juxatlat ‘точно ли потом придут они’.
® ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Некоторые из названных выше частиц могут употребляться не только как модальные, но и как формообразующие. Частица łŏłŋ участвует в образовании аналитической формы сослагательного наклонения (в сочетании с глагольной формой прошедшего времени индикатива). Частица at участвует в образовании формы 3-го лица повелительного наклонения (в сочетании с формой настоящего-будущего времени).
Именные слова в системе модальных средств в хантыйском языке
Модальные слова являются средством выражения отношения говорящего к содержанию высказывания, к способу выражения мысли и входят в состав средств выражения субъективных смыслов. Их целесообразно рассматривать именно как части речи: модальные глаголы, модальные существительные, модальные частицы. Частицы были рассмотрены выше, теперь обратимся к именам существительным с модальной семантикой. В русском языке это отвлеченные существительные типа желание , возможность , необходимость и т. п. С их помощью строятся конструкции типа: Если есть желание, после обеда можно позагорать ; Заходите – есть необходимость поговорить . Однако все же более частотны конструкции с финитными формами модальных глаголов и с модальными предикативами: Если хотите, после обеда можем позагорать ; Заходите – нам необходимо поговорить .
В хантыйском языке похожие конструкции предпочтительнее строить с помощью модальных существительных. Приведем несколько хантыйских загадок, в которых имеются модальные существительные.
Si wεr ki, śi pŭl ki ăntŏm wŏs, mŭw sot mir, mir śuras mir wŏłti śireł ăntŏm wŏs (pănt pos jŭχat). ‘Не было бы его, не было бы их, то не могли бы люди жить (вехи)’ = ‘Не было бы его, не было бы их, то людям бы не было возможности жить (вехи)’.
Aren kińśi ar suχumn lăp tałum. Tŏp śi suχmat poχla pŏχałti śir ăntŏm (ńimsar imi piłt). ‘Дерево обвито множеством нитей. Только эти нити нельзя намотать в клубок (паутина)’ = ‘Только эти нити нет возможности намотать в клубок (паутина)’.
Pa mŭw εłti tŭwum ut uχał uš pa kŭrał uš ăntŏm (pušaχ). ‘Из далеких стран в привезенном предмете не узнать ни головы, ни ног (яйцо)’ = ‘Из далеких стран привезенное нечто – нет возможности узнать, где у него голова, нет возможности узнать, где у него ноги (яйцо)’.
Конструкции такого типа передают значения оптативности, возможности, необходимости. Их структуру составляют инфинитив смыслового глагола (с зависимыми словами и детерминантами), абстрактное именное слово и конечное сказуемое. Хотя именное слово является вполне абстрактным, все же оно сохраняет известную степень лексического значения, функционируя в то же время в сфере «имя существительное как часть речи, обозначающая предмет (в широком смысле слова)».
В качестве стабильного компонента выступает инфинитив основного смыслового глагола (форма на -ti ), который может иметь при себе зависимые слова. Относительно переменным является компонент, который в конструкции является главным сказуемым. В качестве главного предиката могут выступать отрицание ăntŏ ‘нет’, формы бытийного глагола: wŏł ‘есть’ , wŏs ‘было’, ăntŏm wŏs ‘не было’. Отрицательные формы более употребительны в речи, нежели позитивные.
К именному слову с относительно абстрактным значением присоединяются обычно лично-притяжательные аффиксы, выражающие лицо и число субъекта действия. В определенных случаях (при обобщении) этот суффикс отсутствует.
Наиболее употребительны следующие именные слова (существительные): kaš ‘желание, охота’, wŭr ‘стремление, вни- мание’, som ‘сила, физическая возможность’, kds ‘выносливость, способность’, pis ‘возможность, способность’, sir ‘манера, способность’, kem ‘возможность’, kom ‘ограниченная возможность’, wer ‘умение, желание, стремление, способность; необходимость’.
Слово uj ‘удача, счастье, талант’ также участвует в создании предложений с модальным значением «внутренней» возможности (узуальной и актуальной). Например: Met sopay kйray woj pawatti wera uj tajs . ‘Честно говоря, он был чрезвычайно удачлив в добывании лося (букв.: лося добывать большую удачу имел)’; Nay ujenan , mosay, matta /йl welluman . ‘Благодаря твоей удачливости, может, какую-нибудь рыбу поймаем’.
В последнем примере значение субъективной уверенности вносится не столько модальным словом mosay ‘может быть, может’ (оно, наоборот, добавляет оттенок сомнения), сколько упоминанием об удачливости на рыбалке собеседника. После его опущения значение уверенности сохраняется, причем даже если ввести другие модальные компоненты, например частицу ldly ‘бы’: Nay ujenan matta /йl welluman Idly. ‘Благодаря твоей удачливости какую-нибудь рыбу поймаем’.
Слово numas ‘ум; мысль’ также часто употребляется в модальных контекстах; прежде всего оно участвует в создании предложений со значением намерения, желания (или отсутствия такового). Например: Lйy kdrtema j'ay/-ti numas taj-l-um. ‘В летнюю деревню свою съездить думаю (имею намерение)’; Ma lapkaja man-ti numas an tajlum. ‘Я в магазин идти не намерен’.
Таким образом, модальные слова, выражающие субъективную модальность, обозначают различные оттенки отношения высказываемой мысли к действительности как возможной, вероятной, проблематичной, предполагаемой. Это также различные оценочные значения, характеристика высказывания с точки зрения его достоверности или недостоверности, выражение степени уверенности говорящего в своих словах и т. п. Для выражения указанных значений в хантыйском языке служат именные слова (и производные от них сло- ва других частей речи) типа kas ‘желание’, kasay ‘желательный; желанный’, kasnarayl ‘надо же как’. В тексте модальные значения часто выражаются комбинированными (прежде всего – лексико-синтаксическими) средствами.
Заключение
Подводя итоги исследования, отметим три отдельных способа выражения модальности, или три типа конструкций, служащих для передачи модальных значений, в хантыйском языке. В первую группу входят конструкции с модальными частицами и глаголами (а также словами других частей речи). В этом случае модальные слова функционируют как члены предложения (либо находятся в составе члена предложения) или выполняют функцию вводных компонентов. Например: Xoj muj keman weritas , si keman luw siral sajlati jasayj'astas . ‘Кто как мог , так и говорил’; Olayn lйw lu-pas: tam jisn /anti jasaya wdnltijlti nawremat ant weritlat tdsijewa rdt j'asayan putartti, wante, itd/ bukwajt /anti sirn saslat, sit pati mosl kasay bukwa sasti sirn lesatti . ‘И сначала она сказала: “В настоящее время дети, изучающие хантыйский язык, не могут правильно говорить на хантыйском языке, потому что некоторые буквы имеют специфическую звуковую основу; поэтому необходимо каждой буквой один соответствующий звук передавать” ’.
Обратим внимание на то, что в модальном значении возможности в хантыйском языке стал применяться глагол werat - ‘мочь’ (производный от именного слова wer - ‘дело’), ранее преимущественно употреблявшийся в первом значении ‘одолеть, осилить’. Теперь его широкое использование в модальном значении, кажется, выходит на первый план. Тенденцией стало употреблять модальный предикатив ra/l ‘можно’ (от глагола rax - ‘оказаться годным, подходящим’) в другом модальном значении – в значении необходимости: ra/l ‘надо, нужно, необходимо’ и rax - ‘быть нужным, необходимым’. Например: Sa/a raxal jastati: janapa /ojatat ulmel, janapa woj tajmel; jana turam tajmel; jana ulampsa tajmel; luw muwelan, luw jiykelan, nes, ulti /osmel, monsti /osmel! ‘Затем необходимо сказать: действитель-
® ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ но, люди так жили, оказывается, оленей держали, небу поклонялись, хорошо жили; на своей земле, оказывается, жить умели, сказывать умели’; Śăłta łŭw jasaŋłał ewałt uša jis, χuti mŭŋ joχłŭwa wŏn mirχot purajn rŏpitti mosł pa mujsar wεrat jełłi jămałti răχł . ‘Из его речей стало ясно, как нашим людям нужно работать во время большого собрания, и какие дела дальше улучшать необходимо ’; Tăm χătł śi răχł χołpat wantti. ‘В такой день надо сети проверять ’.
Если в первом случае семантика необходимости выражена не очень отчетливо, то во втором и в третьем случае она настолько явная, что можно говорить о ее высокой степени – долженствовании. Впрочем, семантическое расхождение между хантыйским (ăn) mosł ‘(не) нужно’ и (ăn) răχł ‘можно / нельзя’ проявляется в большинстве случаев, и не только там, где они оказываются рядом. Например: Kăšaŋa ănt jiti păta još luńśaχn jăma nuχ ł’uχatti pa kawar-tum jiŋk jańśti mosł ; ńar ńuχi pa karaŋ pušχat jăma kawartti, mŭwn pa jŭχn εnumti putalet šεŋk kawrum jiŋkan šošumti pa śi jŭpijn răχł łεti. ‘Чтобы не заболеть, мыть руки с мылом и пить кипяченую воду необходимо ; сырое мясо и яйца долго варить, овощи, фрукты и ягоды обдавать кипятком, и только после этого следует (можно) есть’.
Вторую группу составляют конструкции с модальными существительными типа wer ‘дело’, śom ‘возможность, сила’, piś ‘возможность’. Они более специфичны в хантыйском языке (по сравнению с другими языками), чем предложения с обычными модальными и вводно-модальными словами. Их предназначение – в основном выражать различные оттенки возможности, необходимости, долженствования.
В третью группу входят конструкции, выражающие разную степень достоверности, – конструкции с предикативами типа niłi ‘кажется’, pełi ‘вроде (бы)’, χurasup ‘похоже (что)’. Такой тип конструкций есть во многих языках агглютинативного строя, но именно в хантыйском языке он наиболее широко употребляется для выражения оттенков значения предположения (различных степеней достоверности / недостоверности).
Все названные группы модальных средств хантыйского языка образуют систему: они равны по степени значимости и употребительности, потому что приспособлены для выражения различных модальных значений. В свою очередь, существование именно такой равновесной системы выражения модальности (и с таким набором средств, часть которых являются специфическими, хотя бы в своем употреблении), создает в целом специфику модальной системы хантыйского языка. Внутренними (глубинными) признаками (свойствами) этой системности являются: наличие ядра модальных средств (единиц, для которых выражение того или иного значения является единственной или первой функцией); наличие правил создания сложных единиц из простых (и комбинирования тех и других); функционирование модальных средств (внутри цельного речевого потока или текста) по принципу дистрибуции; привлечение дополнительных средств для усиления или трансформации определенного модального значения; возможность пополнения фонда модальных средств и путем внутренних семантических изменений, и за счет лексического заимствования.
Список литературы К вопросу о системе модальных средств: частицы и именные слова (на материале казымского диалекта хантыйского языка)
- Водясова Л. П. Сложное синтаксическое целое в современном эрзянском языке: автореф. дис. … д-ра филол. наук. Йошкар-Ола, 2001. 35 с.
- Каксин А. Д. Способы выражения достоверности в казымском диалекте хантыйского языка//Linguistica Uralica. 1996. XXXII, № 4. С. 278-282.
- Кошкарева Н. Б. Модальное сказуемое в хантыйском языке (на материале казымского диалекта)//Компоненты предложения (на материале языков разных систем). Новосибирск, 1988. С. 33-38.
- Кошкарева Н. Б. Способы выражения модус-диктумных отношений в уральских языках Сибири (на материале хантыйского и ненецкого языков)//Вестник Новосибирского государственного университета. Сер. История, филология. 2004. Т. 3, вып. 1. С. 49-63.
- Николаева И. А. Обдорский диалект хантыйского языка/MSUA. Москва; Гамбург, 1995. Helf 15.
- Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность/отв. ред. А. В. Бондарко. Ленинград: Наука. Ленингр. отд-ние, 1990. 264 с.
- Цыганкин Д. В. Мордовские языки глазами лингвиста-финноугроведа: сб. избр. ст. Саранск, 2013. Ч. 3. 244 с.
- Csepregi M. Modalitást kifejező igenévi szerkezetek az osztjákban//Budapesti Uráli Műhely I. Ugor Műhely/MTA Nyelvtudományi Intézet. Budapest, 1999. S. 9-18.
- Salo M. Modal auxiliary verbs in Khanty dialects//Congressus Nonus International Fenno-Ugristarum. Tartu, 2001. Pars VI. P. 138-143.