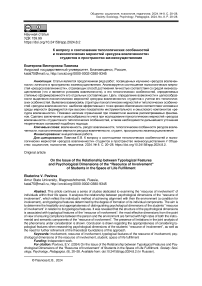К вопросу о соотношении типологических особенностей и психологических мерностей "ресурса вовлеченности" студентов в пространство жизнеосуществления
Автор: Павлова Е.В.
Журнал: Общество: социология, психология, педагогика @society-spp
Рубрика: Психология
Статья в выпуске: 8, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья является продолжением ряда работ, посвященных изучению «ресурса вовлеченности» личности в пространство жизнеосуществления. Анализируется соотношение психологических мерностей «ресурса вовлеченности», отражающих способ достижения личностью соответствия со средой жизнеосуществления (что и является условием вовлеченности), и его типологических особенностей, определяемых степенью сформированности его отдельных составляющих.
Вовлеченность, ресурс вовлеченности, типологические особенности ресурса вовлеченности, психологические мерности ресурса вовлеченности, студент, пространство жизнеосуществления
Короткий адрес: https://sciup.org/149146415
IDR: 149146415 | УДК: 159.99 | DOI: 10.24158/spp.2024.8.2
Текст научной статьи К вопросу о соотношении типологических особенностей и психологических мерностей "ресурса вовлеченности" студентов в пространство жизнеосуществления
Амурский государственный университет, Благовещенск, Россия, ,
,
Постановка проблемы . В изменяющемся мире активно дискутируется вопрос о психологических механизмах, лежащих в основе устойчивости человека как открытой психологической системы, непрерывно взаимодействующей с окружающей средой. При этом речь идет о динамическом равновесии, балансе изменчивости и стабильности как основе продуктивного жизнеосуществ-ления. Ранее нами было показано, что одним из факторов, лежащих в основе подобного равновесия, является вовлеченность человека (в деятельность, организацию, жизнь в целом), а ее психологическим базисом выступает «ресурс вовлеченности». В то же время изучение природы «ресурса вовлеченности» еще далеко от завершения. В частности, не в полной мере прояснено соотношение его отдельных характеристик, в том числе типологических особенностей и психологических мерностей. В данной работе предпринята попытка ответить на этот вопрос.
Обзор литературы по проблеме исследования . Жизнь современного человека протекает в условиях высокой неопределенности, информационной насыщенности, постоянно ускоряется ее темп, что требует способности быстро реагировать, а в оптимальном варианте – «работать на опережение» (Назарчук, 2012; Elliott, Urry, 2010). Все в большей степени человек оказывается «дополнен», «достроен», «гиперподключен» за счет новых технологий (Солдатова, Вой-скунский, 2021; Belk, 2016; Brubaker, 2020). В связи с этим возрастает значение саморегуляции и самоорганизации (Клочко, 2011; Леонтьев, 2016), способности воспринимать неопределенность не как угрозу, а как вызов (Корнилова, 2013). Разнообразие ценностей и культур, сверхнасыщенность цифровой среды возможными моделями поведения и мышления приводят к тому, что человек вынужден постоянно решать задачу на личностный смысл, совершать ценностный выбор (Кисляков и др., 2021; Солдатова, Войскунский, 2021). В этих условиях вовлеченность постепенно становится необходимым «участником» аутентификации человека (Лукьянов и др., 2020).
На современном этапе развития науки и практики возрастает значимость исследования собственно психологической природы вовлеченности человека (в то время как в классических работах по данной тематике отражены преимущественно социологические и управленческие ее аспекты). С учетом требований постнеклассического идеала рациональности данная задача может быть решена в русле системной антропологической психологии (Клочко, 2005; Клочко и др., 2015; Лукьянов и др., 2020). В этом методологическом ключе вовлеченность была определена нами как «состояние человека как психологической системы, формирующееся в пространстве взаимодействия человека и среды при условии их соответствия и достаточной сензитивности человека к этой среде» (Павлова, Краснорядцева, 2021: 62). В качестве меры подобного соответствия нами (на основе теоретического анализа и эмпирических исследований) был описан «ресурс вовлеченности» – совокупность психологических характеристик человека, лежащих в основе вовлеченности: от вовлеченности в конкретную деятельность до вовлеченности в пространство жизнеосуществления в целом, которое человек формирует в ходе сменяющих друг друга деятельностей, реализуя систему жизненных отношений (Клочко, 2005; Логинова, 2009).
В соответствии с разработанной моделью (обоснование модели приведено в более ранних наших работах (Вовлеченность студенческой молодежи…, 2023; Павлова, Краснорядцева, 2021)), «ресурс вовлеченности» образован тремя компонентами: 1) инструментальный – обеспечивает принципиальную возможность вовлеченности человека в среду с определенными характеристиками (с учетом условий жизнеосуществления современной молодежи в его состав включены саморегуляция, ригидность, толерантность к неопределенности, мотивация достижения, локус контроля и психологическая готовность к инновационной деятельности); 2) смысловой (ценностно-смысловое регулирование деятельности) – преломляет условия жизни через призму ценностей и смыслов человека (в его состав вошли переживания в деятельности, личностные дезорганизаторы времени и социально-психологические установки личности); 3) когнитивный – обеспечивает ориентировочную основу деятельности и жизнеосуществления в целом (образован социально-психологическими представлениями человека о различных аспектах пространства жизнеосуществления).
В то же время представленная модель не отражает все аспекты «ресурса вовлеченности» человека. Так, в рамках системной антропологической психологии подчеркивается существование различных мерностей соответствия человека и среды: в одном случае ключевым является соответствие возможностей, предлагаемых средой, системе ценностей человека (Клочко, 2005), в другом первостепенную значимость приобретает темпоральное соответствие (Темпоральные особенности…, 2020) и т. д. Поскольку «ресурс вовлеченности» представляет собой сложное системное образование, мы сочли правомерным говорить о психологических мерностях «ресурса вовлеченности», т. е. о тех сочетаниях его составляющих, которые обеспечивают успех взаимодействия человека и среды в каждом конкретном случае (Павлова, Краснорядцева, 2021). Каждая мерность включает только часть составляющих «ресурса вовлеченности»: инструментальных, смысловых либо тех и других. В силу высокой вариативности когнитивный компонент в структуре мерностей «ресурса вовлеченности» не рассматривается.
Вторая линия анализа «ресурса вовлеченности» определена на основании того факта, что у молодых людей выявлен широкий разброс показателей по отдельным составляющим «ресурса вовлеченности»: от низких до очень высоких. Соответственно, была выдвинута и подтверждена гипотеза о существовании типологических особенностей «ресурса вовлеченности» студентов – относительно устойчивых сочетаний его низких и высоких показателей (Павлова, 2021).
Данные о типологических особенностях «ресурса вовлеченности» легли в основу программы психолого-педагогической работы со студентами, для которых они характерны (т. е. принадлежащими по данному признаку к определенным типологическим группам) (Вовлеченность студенческой молодежи…, 2023). Анализ психологических мерностей «ресурса вовлеченности» позволил описать способы взаимодействия студентов со средой (пространством жизнеосуществления). В процессе реализации программы возник вопрос о том, будут ли различаться психологические мерности «ресурса вовлеченности» обучающихся, различающихся по типологическим особенностям «ресурса вовлеченности», и насколько целесообразно совместное рассмотрение этих характеристик. Проверка данной эмпирической гипотезы и легла в основу исследования. Его цель: определение возможности и целесообразности выделения психологических мерностей «ресурса вовлеченности» студентов с учетом его типологических особенностей.
Методология и методы исследования . В соответствии с описанной структурой «ресурса вовлеченности» был сформирован пакет психодиагностических методов и методик, позволяющих исследовать составляющие его компонентов (Павлова, Краснорядцева, 2021). Так как типологические особенности и психологические мерности «ресурса вовлеченности» образованы составляющими инструментального и смыслового компонентов «ресурса вовлеченности», для диагностики использованы два блока методик: 1) для оценки инструментального компонента: «Стиль саморегуляции поведения» (В.И. Моросанова); «Уровень субъективного контроля» (Е.Ф. Бажин, Е.А. Голын-кина, Л.М. Эткинд); «Томский опросник ригидности», сокращенный вариант (Г.В. Залевский); «Новый опросник толерантности к неопределенности» (Т.В. Корнилова); «Психологическая готовность к инновационной деятельности» (В.Е. Клочко, О.М. Краснорядцева); «Мотивация успеха и боязнь неудачи» (А.А. Реан); 2) для оценки смыслового компонента: «Диагностика переживаний в профессиональной деятельности» (Е.Н. Осин, Д.А. Леонтьев); «Методика диагностики личностных дезорганизаторов времени» (О.В. Кузьмина); «Методика диагностики социально-психологических установок личности в мотивационно-потребностной сфере» (О.Ф. Потемкина).
Поскольку психологические мерности и типологические особенности «ресурса вовлеченности» являются категориями второго порядка по отношению к нему, для их определения использовались статистические процедуры, позволяющие соответствующим образом сгруппировать составляющие «ресурса вовлеченности», установленные посредством перечисленных психодиагностических методик. Для выявления типологических особенностей «ресурса вовлеченности» все респонденты при помощи кластерного анализа были распределены на группы (характеристики «ресурса вовлеченности» студентов внутри каждой группы имеют схожий характер, т. е. отражают его типологические особенности). В статистическую процедуру включены шкалы и общие показатели по всем методикам. На основе процедуры иерархической кластеризации («евклидово расстояние», z-преобразование переменных) выделено четыре кластера, далее применялся метод k-средних. Для определения психологических мерностей «ресурса вовлеченности» данные по каждому кластеру подвергнуты факторному анализу (метод главных компонент, вращение Varimax с нормализацией Кайзера; общие показатели по методикам исключены). Использовался пакет статистических программ SPSS.
Выборка исследования: 497 студентов 2–3-х курсов бакалавриата и специалитета ФГБОУ ВО «Амурский государственный университет», Благовещенск, ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет», Владивосток.
Обсуждение результатов исследования . Для выявления типологических особенностей «ресурса вовлеченности» при помощи кластерного анализа были выделены четыре группы респондентов: «консерваторы (ригидные экстерналы)» (38,38 % от общей выборки); «неорганизованные (несамостоятельные)» (11,74); «напряженно деятельные (ответственные)» (25,92) и «самореализующиеся (вовлеченные)» (23,96 %). Далее определялась применимость для выделенных групп факторного анализа (использовался критерий Кайзера – Мейера – Олкина (КМО)). Следует отметить, что для выборки в целом значение КМО составило 0,8, что свидетельствует о ее высокой адекватности для процедуры факторизации. В то же время для отдельных кластеров значение критерия составило 0,633, 0,245, 0,512 и 0,580 соответственно (возможно, одной из причин подобного распределения значений является число измерений, вошедших в каждый из кластеров). В соответствии с этим из дальнейшей статистической обработки исключен второй кластер; данные, полученные по первому, третьему и четвертому – интерпретируются как тенденции. Число факторов определялось методом «каменистой осыпи».
В качестве типологических особенностей «ресурса вовлеченности» «консерваторов (ригидных экстерналов)» выделены внешний локус контроля, высокая ригидность, низкая толерантность к неопределенности, умеренно выраженная саморегуляция, удовлетворенность деятельностью, высокая готовность к переменам при недостаточных способностях к их реализации. В структуре психологических мерностей их «ресурса вовлеченности» ведущими являются две противоположно направленные тенденции: субъективная дезорганизация деятельности и осмысленность, продуктивность деятельности (таблица 1). Дезорганизация обусловлена сочетанием личностных дезорганизаторов времени (ведущим из которых выступает эмоциональная напряженность) и внешнего локуса контроля в межличностных отношениях. В этом случае можно говорить о несоответствии человека и динамично изменяющейся среды на смысловом и инструментальном уровнях. Данный фактор выявлен в качестве наиболее весомого и по выборке в целом (Павлова, Краснорядцева, 2021). Фактор «осмысленность и продуктивность деятельности» включает ряд действий самоорганизации, мотивацию достижения, отношение к здоровью как к ресурсу, переживания в деятельности, свидетельствующие о ее включенности в общий смысловой контекст жизни, что в совокупности благоприятно для поддержания вовлеченности.
Таблица 1 – Психологические мерности «ресурса вовлеченности» студентов, вошедших в кластер «консерваторы (ригидные экстерналы)»1
Table 1 – Psychological Dimensions of the “Resource of Involvement” of Students Included in the Cluster “Conservatives (Rigid Externalities)”
|
Фактор |
Наполненность |
Вес, % |
|
Фактор 1 . Субъективная дезорганизация деятельности |
Ценностно-смысловые дезорганизаторы времени (0,675). Организационные дезорганизаторы времени (0,716). Мотивационные дезорганизаторы времени (0,729). Эмоциональная апатия (0,769). Эмоциональная напряженность (0,705). Интернальность в области межличностных отношений (–0,361) |
8,36 |
|
Фактор 2 . Осмысленность и продуктивность деятельности |
Переживание в деятельности «удовольствие» (0,545). Переживание в деятельности «смысл» (0,725). Переживание в деятельности «усилие» (0,660). Мотивация достижения (0,472). Планирование (0,337). Моделирование (0,529). Оценивание результатов (0,348). Интернальность в отношении здоровья и болезни (0,309) |
7,57 |
|
Фактор 3 . Готовность к неопределенности |
Толерантность к неопределенности (0,859). Интолерантность к неопределенности (0,862). Межличностная интолерантность к неопределенности (0,867). Интернальность в области неудач (–0,147). Интернальность в области производственных отношений (–0,288) |
7,11 |
|
Фактор 4 . Готовность к изменениям |
Предпочтение деятельности, требующей инновативности (0,439). Готовность к переменам (0,476). Актуальная ригидность (–0,771). Сенситивная ригидность (–0,693). Установочная ригидность (–0,595). Гибкость (0,500) |
7,09 |
|
Фактор 5 . Ориентация на самостоятельный труд |
Инициативность (0,393). Социально-психологическая установка «процесс» (0,238). Социально-психологическая установка «труд» (0,552). Социальнопсихологическая установка «свобода» (0,343). Программирование (0,409). Самостоятельность (0,563). Интернальность в области достижений (–0,373). Интернальность в области семейных отношений (–0,364) |
6,42 |
|
Фактор 6 . Ориентация на результат |
Переживание в деятельности «пустота» (0,362). Социально-психологическая установка «результат» (0,395). Социально-психологическая установка «альтруизм» (–0,630). Социально-психологическая установка «эгоизм» (0,742). Социально-психологическая установка «власть» (0,505). Социально-психологическая установка «деньги» (0,640) |
6,13 |
Следующие два фактора отражают различные варианты взаимодействия человека и динамично изменяющейся среды. В первом случае (фактор «готовность к неопределенности») речь идет о способности переносить неопределенность, во втором (фактор «готовность к изменениям») – о готовности изменять свой образ жизни, деятельность, проявлять гибкость и инициативу. С учетом знаков шкал можно утверждать, что студенты принимают неопределенность в целом, но нуждаются в четких инструкциях к действиям и ясности в отношениях с людьми; не готовы нести ответственность за происходящее в сфере деятельности (производственных отношений) и за жизненные неудачи в целом.
Факторы «ориентация на самостоятельный труд» и «ориентация на результат» описывают направленность выбора вовлеченности. Первый из них включает стремление человека к труду, который имеет ярко выраженную процессуальную (в противовес результативной) направленность и позволяет проявлять самостоятельность и инициативу. Внешний локус контроля в области достижений может быть связан с тем, что в описанной ситуации достижение результатов изначально не входит в систему установок человека. Фактор «ориентация на результат» образован преимущественно социально-психологическими установками в мотивационно-потребностной сфере, отражающими индивидуалистические ценности. Ведущим переживанием в деятельности в данном случае является «пустота» – чувство бессмысленности совершаемых действий, отсутствия удовольствия от них, чрезмерности усилий.
К типологическим особенностям «ресурса вовлеченности» «напряженно деятельных (ответственных)» студентов отнесены следующие: умеренные ригидность и толерантность к неопределенности, смешанный локус контроля, готовность к инновационной деятельности, невыраженный мотивационный полюс, высокая инициативность, развитая саморегуляция; сочетание переживаний в деятельности и личностных дезорганизаторов отражает наличие напряжения. Первый фактор в структуре психологических мерностей «ресурса вовлеченности» указанных студентов – «готовность к изменениям» (таблица 2). Как и в случае с «консерваторами», он образован показателями ригидности (с обратным знаком), психологической готовности к инновационной деятельности и саморегуляционной гибкости, однако вес фактора в данном случае выше.
Таблица 2 – Психологические мерности «ресурса вовлеченности» студентов, вошедших в кластер «напряженно деятельные (ответственные)»
Table 2 – Psychological Dimensions of the “Resource of Involvement” of Students Included in the Cluster “Intensely Active (Responsible)”
|
Фактор |
Наполненность |
Вес, % |
|
Фактор 1 . Готовность к изменениям |
Инициативность (0,345). Предпочтение деятельности, требующей инновативности (0,446). Готовность к переменам (0,590). Актуальная ригидность (–0,684). Сенситивная ригидность (–0,702). Установочная ригидность (–0,425). Моделирование (0,495). Гибкость (0,677) |
8,74 |
|
Фактор 2 . Наслаждение процессом деятельности |
Переживание в деятельности «удовольствие» (0,693). Переживание в деятельности «смысл» (0,570). Переживание в деятельности «пустота» (–0,391). Социальнопсихологическая установка «процесс» (0,420). Социально-психологическая установка «альтруизм» (0,603). Социально-психологическая установка «труд» (0,544) |
7,42 |
|
Фактор 3 . Напряженная активность |
Эмоциональная апатия (0,582). Эмоциональная напряженность (0,573). Переживание в деятельности «усилие» (0,519). Социально-психологическая установка «результат» (0,621). Социально-психологическая установка «свобода» (0,400). Интолерантность к неопределенности (0,450). Межличностная интолерантность к неопределенности (0,458) |
6,73 |
|
Фактор 4 . Планирование будущего |
Социально-психологическая установка «власть» (–0,606). Социальнопсихологическая установка «деньги» (–0,534). Программирование (0,632). Оценивание результатов (0,715) |
6,72 |
|
Фактор 5 . Ориентация на внешние источники благ |
Социально-психологическая установка «эгоизм» (0,395). Интернальность в области достижений (–0,680). Интернальность в области семейных отношений (–0,675). Интернальность в области межличностных отношений (–0,353) |
6,33 |
|
Фактор 6 . Готовность к деятельности в условиях неопределенности |
Мотивация достижения (–0,458). Планирование (–0,384). Самостоятельность (0,384). Толерантность к неопределенности (0,453). Интернальность в области неудач (0,549). Интернальность в области производственных отношений (0,701). Интернальность в отношении здоровья и болезни (0,368) |
6,26 |
|
Фактор 7 . Субъективная дезорганизация деятельности |
Ценностно-смысловые дезорганизаторы времени (0,682). Организационные дезорганизаторы времени (0,506). Мотивационные дезорганизаторы времени (0,714) |
6,20 |
Факторы «наслаждение процессом деятельности» и «напряженная активность» отражают соответствие человека и среды преимущественно на ценностно-смысловом уровне. Первый из них включает эмоциональную оценку деятельности, а также готовность принимать во внимание интересы других людей. В то же время получают удовольствие от выполняемой деятельности и считают ее осмысленной только малая часть студентов. Процессуальные и альтруистические установки доминируют у половины опрошенных.
Установка на результат деятельности в структуре фактора «напряженная активность» сочетается с психологическими апатией, напряженностью, восприятием деятельности как требующей усилий и потребностью в определенности, стабильности, понятности выполняемых задач и межличностных отношений. Именно напряженность для более чем трети респондентов данной группы является фоновым состоянием, затрудняющим процесс жизнеосуществления.
Фактор «планирование будущего» включает составляющие саморегуляции, лежащие в основе стремления к определению детальных алгоритмов достижения целей и критериев оценивания достигнутого. Однако сформированы на высоком уровне данные действия у малой части студентов. Вошедшие в состав фактора с отрицательным знаком социально-психологические установки «власть» и «деньги», вероятно, для этих молодых людей не являются значимыми в качестве критериев успешности деятельности. Фактор «ориентация на внешние источники благ» отражает рецептивную позицию, при которой человек передает ответственность за свои достижения и отношения внешним обстоятельствам, при этом интересы окружающих во внимание не принимаются.
Следующий фактор обозначен нами как «готовность к деятельности в условиях неопределенности» (в отличие от «готовности к неопределенности» в целом у представителей первой группы), что связано со своеобразием его наполнения. Сочетание интернальности в области выполняемой деятельности и в отношении ресурсов собственного здоровья, личностной готовности к неопределенности с отсутствием мотивации достижения и планирования (показатели вошли в состав фактора с отрицательным знаком) может быть интерпретировано как неготовность, нежелание расширять текущую сферу деятельности. Фактор «субъективная дезорганизация деятельности» в данном случае отражает исключительно дезорганизацию во времени, обусловленную ценностным, мотивационным и организационным несоответствием человека и среды.
Типологические особенности «ресурса вовлеченности» «самореализующихся (вовлеченных)» студентов включают внутренний локус контроля, толерантность к неопределенности, превышающую средний уровень, умеренную ригидность, готовность к инновациям, развитую саморегуляцию и организованность во времени (что отличает их от представителей других групп). В структуре психологических мерностей «ресурса вовлеченности» у представителей данной группы ведущей является «ориентация на результат» (таблица 3).
Таблица 3 – Психологические мерности «ресурса вовлеченности» студентов, вошедших в кластер «самореализующиеся (вовлеченные)»
Table 3 – Psychological Dimensions of the “Resource of Involvement” of Students Included in the Cluster “Self-Actualizing (Involved)”
|
Фактор |
Наполненность |
Вес, % |
|
Фактор 1 . Ориентация на результат |
Ценностно-смысловые дезорганизаторы времени (–0,530). Организационные дезорганизаторы времени (–0,587). Мотивационные дезорганизаторы времени (–0,677). Переживание в деятельности «удовольствие» (0,680). Переживание в деятельности «смысл» (0,554). Мотивация достижения (0,549). Социальнопсихологическая установка «результат» (0,447). Социально-психологическая установка «труд» (0,611). Планирование (0,545). Программирование (0,439). Оценивание результатов (0,434) |
10,78 |
|
Фактор 2 . Неготовность к изменениям |
Предпочтение деятельности, требующей инновативности (–0,421). Готовность к переменам (–0,741). Переживание в деятельности «пустота» (0,499). Актуальная ригидность (0,769). Сенситивная ригидность (0,726). Установочная ригидность (0,732). Моделирование (–0,310). Интолерантность к неопределенности (0,471). Межличностная интолерантность к неопределенности (0,688) |
10,51 |
|
Фактор 3 . Ориентация на независимость в деятельности |
Эмоциональная апатия (–0,539). Эмоциональная напряженность (–0,527). Инициативность (0,480). Социально-психологическая установка «свобода» (0,463). Гибкость (0,621). Самостоятельность (0,495). Интернальность в области межличностных отношений (0,490) |
7,89 |
|
Фактор 4 . Готовность к принятию ответственности |
Переживание в деятельности «усилие» (–0,468). Интернальность в области достижений (0,535). Интернальность в области неудач (0,738). Интернальность в области семейных отношений (0,582). Интернальность в области производственных отношений (0,641). Интернальность в отношении здоровья и болезни (0,537) |
7,18 |
|
Фактор 5 . Ориентация на собственные интересы |
Социально-психологическая установка «процесс» (–0,297). Социальнопсихологическая установка «альтруизм» (–0,732). Социально-психологическая установка «эгоизм» (0,777). Социально-психологическая установка «власть» (0,514). Социально-психологическая установка «деньги» (0,538). Толерантность к неопределенности (–0,440) |
6,94 |
Фактор образован показателями саморегуляции, обеспечивающими постановку целей, определение условий и критериев их достижения; социально-психологическими установками на результат и труд; положительными переживаниями в деятельности в сочетании с отсутствием мотивационных, организационных и ценностно-смысловых дезорганизаторов времени. В совокупности это свидетельствует о том, что выполняемая деятельность приносит молодым людям удовольствие, соотносится с их жизненными планами и в целом воспринимается как результат их собственного выбора.
Противоположную тенденцию отражает фактор «неготовность к изменениям», включающий ригидность, интолерантность к неопределенности на когнитивном и межличностном уровнях, психологическую неготовность к инновациям. Деятельность в данном случае воспринимается человеком как «пустая», не имеющая смысла и не приносящая удовольствия. Фактически для данной группы респондентов жизнеосуществление в стабильных условиях, без новизны и динамики, как раз является «пустым», что затрудняет инициацию и поддержание устойчивого состояния вовлеченности.
Следующие факторы описывают направленность выбора вовлеченности. Фактор «ориентация на независимость в деятельности» отражает ситуацию, в которой основой жизнеосуществ-ления выступает возможность проявлять гибкость и самостоятельность, быть инициативным, неся ответственность за собственные решения. Это ассоциируется со свободой, которая, по мнению ряда авторов (Токарева, Баронене, 2019), есть неотъемлемое условие подлинной вовлеченности. Немаловажным является и тот факт, что в этом случае отсутствуют эмоциональные апатия и напряженность.
Фактор «готовность к принятию ответственности» образован преимущественно показателями уровня субъективного контроля в различных сферах деятельности. В сочетании с переживанием «усилие», взятым с обратным знаком, это может быть интерпретировано как восприятие студентами принятия на себя ответственности как чего-то само собой разумеющегося. Фактор «ориентация на собственные интересы» образован главным образом социально-психологическими установками в мотивационно-потребностной сфере, ведущими из которых у студентов являются «альтруизм» и «власть». Ориентация на собственные интересы сочетается с непринятием неопределенности на личностном уровне.
Исследование позволяет сделать ряд выводов:
-
1. Вовлеченность – это состояние, которое формируется в результате взаимодействия человека и среды при условии их соответствия; мерой соответствия выступает «ресурс вовлеченности». Типологические особенности и психологические мерности «ресурса вовлеченности» студентов в пространство жизнеосуществления отражают различные аспекты взаимодействия человека и среды. В первом случае речь идет о выраженности отдельных составляющих «ресурса вовлеченности», во втором – об уникальном сочетании этих составляющих, обеспечивающем достижение соответствия человека и среды.
-
2. Несовпадение перечня и характеристик мерностей «ресурса вовлеченности» у студентов, отнесенных на основании типологических особенностей их «ресурса вовлеченности» к различным группам, позволяет сделать вывод о существовании взаимосвязи между психологическими мерностями и типологическими особенностями «ресурса вовлеченности». Психологические мерности «ресурса вовлеченности» «консерваторов» и «напряженно деятельных» респондентов в ряде случаев обеспечивают соответствие человека и среды либо только на инструментальном уровне, либо только на смысловом. В то время как у «самореализующихся» молодых людей в каждый фактор входят как инструментальные составляющие «ресурса вовлеченности», так и смысловые, что свидетельствует о большей сбалансированности используемых ими способов обеспечения соответствия собственных ожиданий, ценностей, потенций и возможностей и требований пространства жизни. Другими словами, оптимальные мерности «ресурса вовлеченности», обеспечивающие соответствие человека и среды и тем самым его вовлеченность, формируются при высоких показателях как инструментального компонента, так и смыслового.
-
3. Суммарная объяснительная дисперсия факторов, описывающих психологические мерности «ресурса вовлеченности», выше по выборке в целом, чем при проведении анализа с учетом его типологических особенностей, т. е. полученные данные должны рассматриваться скорее как тенденции. В то же время выделение психологических мерностей «ресурса вовлеченности» студентов с учетом его типологических особенностей позволяет разработать более индивидуализированные стратегии психолого-педагогического управления их вовлеченностью в деятельность и процесс жизнеосуществления в целом.
Таким образом, можно говорить о возможности и целесообразности выделения психологических мерностей «ресурса вовлеченности» студентов с учетом его типологических особенностей. Однако рассматриваемый вопрос требует дальнейшего эмпирического исследования и теоретического осмысления. Учитывая отсутствие на сегодняшний день аналогичных по совокупности методологического подхода (системной антропологической психологии) и изучаемых феноменов (в первую очередь «ресурса вовлеченности») исследований, полученные данные значимы для построения целостной концепции вовлеченности личности в пространство жизнеосуществления.
Список литературы К вопросу о соотношении типологических особенностей и психологических мерностей "ресурса вовлеченности" студентов в пространство жизнеосуществления
- Вовлеченность студенческой молодежи в пространство жизнеосуществления: проблема концептуализации феномена в новых социокультурных условиях: монография / Е.В. Павлова, О.М. Краснорядцева, А.В. Лейфа, А.Д. Плутенко, В.В. Ерёмина, Н.С. Бодруг, А.К. Леонов, А.А. Бобылева ; под общ. ред. Е.В. Павловой. Чебоксары, 2023. 296 с.
- Кисляков П.А., Меерсон А.-Л.С., Шмелева Е.А., Александрович М.О. Устойчивость личности к социокультурным угрозам в условиях цифровой трансформации общества // Образование и наука. 2021. Т. 23, № 9. С. 142–168. https://doi.org/10.17853/1994-5639-2021-9-142-168.
- Клочко В.Е. Категория саморегуляции в контексте парадигмальных изменений современной психологии // Психология саморегуляции в XXI в. / отв. ред. В.И. Моросанова. СПб.; М., 2011. С. 38–56.
- Клочко В.Е. Самоорганизация в психологических системах: проблемы становления ментального пространства личности (введение в трансспективный анализ). Томск, 2005. 174 с.
- Клочко В.Е., Галажинский Э.В., Краснорядцева О.М., Лукьянов О.В. Системная антропологическая психология: понятийный аппарат // Сибирский психологический журнал. 2015. № 56. С. 9–20. https://doi.org/10.17223/17267080/56/2.
- Корнилова Т.В. Ригидность, толерантность к неопределенности и креативность в системе интеллектуально-личностного потенциала человека // Вестник Московского университета. Сер. 14: Психология. 2013. № 4. С. 36–47.
- Леонтьев Д.А. Саморегуляция, ресурсы и личностный потенциал // Сибирский психологический журнал. 2016. № 62. С. 18–37. https://doi.org/10.17223/17267080/62/3
- Логинова И.О. Теоретико-методологическое обоснование постановки проблемы жизненного самоосуществления человека в психологии // Сибирский психологический журнал. 2009. № 33. C. 31–35.
- Лукьянов О.В., Бронер В.И., Васильев А.В. Категориальный аппарат психологии вовлеченности (аутентификации) // Сибирский психологический журнал. 2020. № 75. С. 39–52. https://doi.org/10.17223/17267080/75/3.
- Назарчук А.В. Социальное время и социальное пространство в концепции сетевого общества // Вопросы философии. 2012. № 9. C. 56–66.
- Павлова Е.В. Типологические особенности «ресурса вовлеченности» студе нтов современного вуза // Мир науки. Педагогика и психология. 2021. № 4.
- Павлова Е.В., Краснорядцева О.М. Ресурс вовлеченности как психологическая характеристика степени соответствия человека и образовательной среды // Сибирский психологический журнал. 2021. № 81. С. 52–78. https://doi.org/10.17223/17267081/81/3.
- Солдатова Г.У., Войскунский А.Е. Социально-когнитивная концепция цифровой социализации: новая экосистема и социальная эволюция психики // Психология. Журнал Высшей школы экономики. 2021. Т. 18, № 3. С. 431 –450. https://doi.org/10.17323/1813-8918-2021-3-431-450.
- Темпоральные особенности студентов как когнитивные диагностические характеристики: контекст адаптивного образования / Е.В. Бредун, Д.Ю. Баланёв, Т.А. Ваулина, О.М. Краснорядцева, Э.А. Щеглова // Российский психологический журнал. 2020. Т. 17, № 1. С. 60–73. https://doi.org/10.21702/rpj.2020.1.5.
- Токарева А.А., Баронене С.Г. Методика исследования вовлеченности сотрудников университета // Университетское управление: практика и анализ. 2019. Т. 23, № 1–2. С. 11–32. https://doi.org/110.15826/umpa.2019.01-2.001.
- Belk R. Extended self and the digital world // Current Opinion in Psychology. 2016. Vol. 10. P. 50–54. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2015.11.003.
- Brubaker R. Digital hyperconnectivity and the self // Theory and Society. 2020. Vol. 49. P. 771–801. https://doi.org/10.1007/s11186-020-09405-1.
- Elliott A., Urry J. Mobile lives: Self, excess and nature. L., 2010. 208 p. https://doi.org/10.4324/9780203887042.