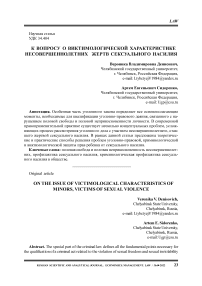К вопросу о виктимологической характеристике несовершеннолетних, жертв сексуального насилия
Автор: Денисович В.В., Сидоренко А. Е.
Журнал: Вестник экономики, управления и права @vestnik-urep
Рубрика: Право
Статья в выпуске: 4 (61), 2022 года.
Бесплатный доступ
Особенная часть уголовного закона определяет все основополагающиемоменты, необходимые для квалификации уголовно-правового деяния, связанного с нарушением половой свободы и половой неприкосновенности личности. В современнойправоприменительной практике существует несколько концептуальных проблем, усложняющих процесс рассмотрения уголовного дела с участием несовершеннолетнего, ставшего жертвой сексуального насилия. В рамках данной статьи предложены теоретические и практические способы решения проблем уголовно-правовой, криминологическойи виктимологической защиты прав ребенка от сексуального насилия.
Половая свобода и половая неприкосновенность несовершеннолетних, профилактика сексуального насилия, криминологическая профилактика сексуального насилия в обществе
Короткий адрес: https://sciup.org/142236755
IDR: 142236755 | УДК: 343.9
Текст научной статьи К вопросу о виктимологической характеристике несовершеннолетних, жертв сексуального насилия
По составу объективной стороны, а именно по способу совершения, половые преступления в доктрине уголовного права принято делить на насильственные и ненасильственные. К непосредственно насильственным относятся три состава: ст. 131, 132 и 133 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) ввиду того, что совершение данных преступлений априори сопряжено с применением в отношении потерпевшего или его близких физического или психического насилия.
Описание исследования
Оценивая категорию насилия, нельзя не отметить, что в действующем Уголовном кодексе законодатель предусмотрел несколько разновидностей насилия над личностью, в частности физическое насилие или психическое насилие.
Также существуют и спорные ситуации, когда преступление будет охватываться и специальной нормой УК РФ, и более общей по отношению к ней. Например, ситуация совершения преступления, предусмотренного ст. 131 УК РФ, - применение насилия при изнасиловании, которое повлекло причинение средней тяжести вреда здоровью, который, в свою очередь, охватывается диспозицией ст. 112 УК РФ.
Для преодоления возможных коллизий при правоприменении теорией и практикой было обозначено следующее правило: если санкция статьи, которой предусмот- рен признак «насилие», охватывает определенный вид причинения вреда здоровью, то совокупность преступлений не требуется. Тем не менее, если, допустим, то же изнасилование повлекло за собой причинение тяжкого вреда здоровью, то действия виновного лица подлежат квалификации по соответствующей части ст. 131 в совокупности с преступлением, предусмотренным ст. 111 УК РФ1.
Однако в связи с этим не совсем понятен подход законодателя, который в п. 2 ст. 131 и в п. 2 ст. 132 УК РФ указывает в качестве квалифицирующего обстоятельства заражение потерпевшего венерическим заболеванием, ответственность за которое предусмотрена ст. 121 УК РФ и максимальная санкция за которое назначается в виде ареста до 6 месяцев, что вполне охватывается и составом ч. 1 ст. 131 и 132 УК РФ.
Спорен подход законодателя к ужесточению наказания за заражение потерпевшего венерическим заболеванием и потому, что в нормах квалифицированных и особо квалифицированных составов статьей 131 и 132 отсутствует указание на умышленное заражение потерпевшего ВИЧ-инфекцией, что автоматически означает необходимость, в случае установления данного признака, дополнительной квалификации содеянного по совокупности со ст. 122 УК РФ, либо же, следуя вышеназванной практике поглощения размера санкций, и вовсе не потребуется дополнительной квалификации, так как 5 лет лишения свободы по ст. 122 УК РФ входят в диапазон до 6 лет по ч. 1 ст. 131 УК РФ.
Из этого следует вывод, что могут быть случаи, когда по одному из уголовных дел обвиняемый N был осужден за совершение преступления, предусмотренного п. в ч. 2 ст. 131 УК РФ, заразив в ходе изнасилования потерпевшую венерической болезнью, и приговорен к 8 годам лишения свободы, в то время как по другому уголовному делу другой господин N. получил наказание в виде 5 лет лишения свободы после заражения потерпевшей ВИЧ-инфекцией с учетом совокупности ст. 131 и 122 УК РФ.
Уголовно-правовая доктрина в качестве разновидностей насилия также называет насилие, опасное для жизни и здоровья, и насилие, не опасное для жизни и здоровья.
Под насилием, не опасным для жизни или здоровья, исходя из толкования данного словосочетания, следует понимать такое насилие, которое не причинило вреда здоровью ни легкой, ни средней тяжести, ни тяжкого и, в свою очередь, не создало угрозы для жизни потерпевшего, но причинившее ему физическую боль, или же деяния по ограничению его свободы (например, связывание рук, применение наручников, оставление в закрытом помещении). Рассуждая от противного, понятие насилия, опасного для жизни или здоровья, толкуется следующим образом: насилие, связанное с причинением вреда здоровью различной степени тяжести, а равно причинение смерти потерпевшему, будет трактоваться как применение насилия, в зависимости от обстоятельств дела, опасного для жизни или для здоровья потерпевшего соответственно.
Однако указанная позиция не содержится ни в одном акте судебного толкования, а потому является спором во мнениях как правоприменителей, так и ученых-теоретиков.
В правоприменительной практике, особенно то, что касаемо составов насильственных половых преступлений, стоит ог- раничить рамки насилия, опасного для жизни или здоровья причинением среднего или легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности, а также иное насилие, которое хотя и не причинило указанного вреда, но в момент применения создавало реальную опасность для жизни и здоровья потерпевшего.
Стоит также отметить, что насилие, опасное для жизни и здоровья, не исчерпывается нанесением исключительно телесных повреждений, нарушающих анатомическую целостность тканей человека, но включает в себя и такие, причинение которых реально угрожает жизни потерпевшего и способно вызвать его смерть.
Также, говоря об опасности для здоровья человека, можно сделать вывод, что она не всегда связана с физиологическими аспектами, а иногда может возникать и в результате возникших психических нарушений.
Вторым блоком рассматриваемых в статье вопросов будут являться проблемы квалификации уголовно-правовых деяний сексуального характера с участием несовершеннолетних. При этом заранее отметим, что поведение несовершеннолетних, их личность обладает повышенной степенью виктимности [2; 4; 8; 9].
Высокой виктимностью в силу психофизиологических особенностей детского и подросткового периодов, для которых характерны незавершенность нравственного формирования, отставание психического развития от развития физического, преобладание в психической деятельности процессов возбуждения над процессами торможения, обладают несовершеннолетние [10].
Обратимся к последовательному их рассмотрению. Возрастная психология, педагогика и криминология предлагают различные классификации детского, подросткового и юношеского возраста.
Концепция «критических периодов», созданная в 1921 году К. Стоккардом и в дальнейшем расширенная П.Г. Светловым, выделяет следующие возрастные группы: младший школьный возраст (6 - 9 лет), младший подростковый возраст (10 - 13 лет), старший подростковый возраст (14 -15 лет), ранний юношеский возраст (16 - 17 лет) [5, с. 86-90].
В рамках исследования охарактеризуем все указанные выше возрастные группы с точки зрения возникновения виктимоло-гических рисков. Младший школьный возраст, определенный рамками 6 - 9 лет, характеризуется как качественно новый этап развития ребенка. Согласно периодизации Д.Б. Эльконина, развитие высших психических функций и формирование личности в целом происходит в рамках учебной деятельности, которая является ведущей в этом периоде. Правильное отношение к обучению формируется не сразу у младших школьников, поскольку учение - это труд, требующий волевых усилий, мобилизации внимания, интеллектуальной активности и самоограничений. Если ребенок к этому не готов или не привык, у него наступает разочарование и как следствие - отрицательное отношение к обучению [3, с. 36].
В период 6 - 9 лет происходит активное анатомо-физиологическое развитие. К семи годам совершается морфологическое созревание лобного отдела больших полушарий, что создает возможности для осуществления целенаправленного произвольного поведения, планирования и выполнения программ действий. Возрастает подвижность нервных процессов, отмечается большее, чем у дошкольников, равновесие процессов возбуждения и торможения, хотя процессы возбуждения превалируют, чем определены такие характеристики младших школьников, как непоседливость и повышенная эмоциональная возбудимость. Существенные изменения происходят в органах и тканях тела, повышается, по сравнению с предшествующим периодом, физическая выносли- вость ребенка, однако высокая утомляемость также присуща младшим школьникам.
Особое значение, с точки зрения возникновения виктимологических рисков, имеют следующие особенности младшего школьного возраста: к его завершению у ребенка активно формируется самооценка, фокус внимания смещается от взаимоотношений с родителями к сверстникам, расширяются социальные связи, ребенок «принимает» правила групп, в которые включен, и стремится завоевать признание внутри этих групп.
Важнейшей особенностью подросткового возраста является пограничное его положение между детством и взрослостью. Младший подростковый возраст (10 - 13 лет) - это период тотальной физиологической перестройки организма, для него характерно интенсивное развитие желез внутренней секреции, ведущее к диспропорции в физической конституции. Изменение моторики приводит к некоторой неуклюжести, подросток совершает множество неоправданных движений, что сопровождается быстрой утомляемостью, формирующей недовольство собой.
Процесс самоконтроля в младшем подростковом возрасте находится на низком уровне, чаще всего младшие подростки проявляют крайнюю интроверсию, поскольку им кажется, что окружающие их не понимают и обращение к ним бессмысленно. Дети в этом возрасте достаточно раздражительны, настроение их часто меняется, симпатии и антипатии основываются только на эмоциональном восприятии окружающих [3, с. 37].
Потребность к самоутверждению и признанию в мире взрослых меняет поведение подростка, он либо обращается к творчеству, либо стремится добиться авторитета через девиантные формы поведения.
Стремление к свободе, самостоятельности и самоутверждению в совокупности с противостоянием по отношению к родите- лям и педагогам, с их чрезмерной опекой или наоборот, невнимательностью к подросткам, является ключевым фактором в механизме вовлечения детей в возрасте от 10 до 13 лет в совершение ими антиобщественных действий.
Старший подростковый возраст (14 - 15 лет) характеризуется интенсивным половым развитием, что является причиной нестабильности эмоционального фона подростков. В этот период подростки находятся в постоянной борьбе за право на собственную позицию, они бурно проявляют свои эмоции, они энергичны, общительны и уверены в себе, однако склонны сравнивать себя с другими, поскольку их внимание с собственной индивидуальности переносится в окружающий мир. Подростки в этот период нуждаются в эмоциональной поддержке, дружбе и испытывают острую потребность в групповом общении и принятии.
Чувство взрослости, находящее свое выражение в курении табака и употреблении подростками психоактивных веществ, является определяющим в девиантном поведении несовершеннолетних в этом возрасте. Состояние алкогольного, токсического или наркотического опьянения создает мнимое ощущение решения всех проблем и способствует понижению неуверенности и тревоги, которые свойственны возрастному периоду.
Формирование сексуального мировоззрения, отсутствие надлежащего контроля и сексуального воспитания со стороны взрослых ведет к раннему началу половой жизни, беспорядочным сексуальным контактам, подростковому эксгибиционизму, садизму и интересу к занятиям проституцией и порнографией [3].
Ранний юношеский возраст (16 - 17 лет) психологи называют переходом от фазы негативного подросткового возраста к стадии позитивной. Он характеризуется завершением роста и развития организма, усиленным вниманием несовершеннолетнего к себе и своим жизненным перспективам, в силу чего нередки нервные срывы из-за колоссального нервного перенапряжения, связанного с потерей душевного равновесия или отсутствием ясности в жизни, осознанием собственной индивидуальности и неповторимости.
В этом возрасте авторитет родителей зависит от степени доверительности отношений, особенные отношения складываются со сверстниками, друзья «выходят на первый план», а любая информация скрывается.
Именно мотив самоутверждения среди сверстников доминирует над остальными потребностями, побуждая несовершеннолетних искать такую среду, в которой они могут быть не хуже других, зачастую речь идет о деструктивных группах и сообществах.
Среди причин вовлеченности несовершеннолетних в раннем юношестве в совершение антиобщественных действий, в частности, в употребление психоактивных веществ несовершеннолетние называют желание испытать новые ощущения, следовать моде или традициям подростковой группы, влияние друзей и знакомых, желание забыться или уйти от решения текущих проблем [3, с. 38].
Понятия «пол» и «гендер» можно «развести» следующим образом, акцентировав внимание на том, что пол определяет биологические различия в репродуктивной системе между женщинами и мужчинами, а гендер несет в себе культурные особенности и относится к социальной классификации «мужественности» и «женственности» [1, с. 37].
Факторы риска формирования виктим-ного поведения личности как женского, так и мужского пола могут быть различными, гендерные особенности проявляются в различных сферах жизнедеятельности индивида и в специфике его виктимизации.
Выявлено, что лица мужского пола предрасположены к активному виктимному поведению, женского пола - к пассивному.
Маскулинность предопределяет агрессивное поведение. Данной группе несовершеннолетних характерно попадание в неприятные и опасные для жизни и здоровья ситуации в результате проявленной агрессии в форме любого провоцирующего поведения, намеренное создание конфликтной ситуации. Такое поведение может быть реализацией типичной для них антиобщественной направленности личности.
У данной группы лиц может наблюдаться склонность к антиобщественному поведению, нарушению социальных норм, правил и этических ценностей, они легко поддаются эмоциям, особенно негативного характера, ярко их выражают, доминантны, нетерпеливы и вспыльчивы.
Для группы фемининной, наоборот, наиболее характерна склонность к зависимому и беспомощному поведению, то есть модель пассивной виктимности.
Представители данной гендерной группы не готовы оказывать сопротивления, противодействия преступнику в случае опасности по различным причинам: в силу физической слабости, беспомощного состояния, трусости, из-за опасения ответственности за собственные противоправные или аморальные действия. Они зачастую вовлекаются в кризисные ситуации с целью получения сочувствия и поддержки окружающих, находятся в ролевой позиции жертвы, характеризуются робостью, скромностью, повышенной внушаемостью и конформностью.
Этническая принадлежность несовершеннолетних, их культурные различия, проявляющиеся в образе жизни, стереотипах поведения, системе ограничения или предоставления определенных свобод представителям мужского и женского пола, находят отражение в степени виктимности индивидов и возникновении факторов риска.
Как отмечают исследователи, общий уровень виктимизации чернокожих девушек выше, чем белых и испаноговорящих. Причиной повышенной виктимности цветных женщин может являться как сохраняющийся довольно высокий уровень расистских настроений в обществе, так и виктимный характер поведения представителей этнических меньшинств: частая смена места жительства, нестандартные формы бытового поведения и другое [7].
К характеристике личности несовершеннолетней жертвы вовлечения в совершение антиобщественных действий необходимо добавить влияние типа ее темперамента. Наиболее виктимными являются дети и подростки - обладатели холерического и меланхолического темперамента. В первом случае это можно связать с низкой способностью к саморегуляции, вспыльчивостью, импульсивностью и жаждой риска, во втором случае -с ранимостью, интровертированностью и эмоциональной нестабильностью.
Отклонения в умственном развитии и психические заболевания несовершеннолетних также являются детерминантами их вовлечения в совершение антиобщественных действий.
Патологии умственного развития сказываются на несамостоятельности принятия решений и совершения действий, ощущении незащищенности, в пониженной критичности по отношению к себе, повышенной требовательности к заботе других о себе.
Виктимность несовершеннолетних, имеющих отклонения в развитии, во многом связана с конформностью, то есть податливостью человека реальному или воображаемому давлению группы, проявляющейся в изменении его поведения и установок в соответствии с первоначально не разделявшейся им позицией. При этом конформность проявляется и в уступчивости, и в одобрении.
По данным Всемирной организации здравоохранения, опубликованным в начале 2020 года, эмоциональные расстройства, в том числе депрессии и тревожность, сопровождаемые повышенной раздражительностью, неудовлетворенностью и гневностью, и поведенческие расстройства, как правило, синдром дефицита внимания и гиперактивности, развиваются в младшем подростковом возрасте, до 14 лет. Возникновение и прогрессирование расстройств, характеризующихся психотическими симптомами (галлюцинациями и бредовыми расстройствами), происходит, преимущественно в период раннего юношества (16 - 17 лет)2.
Еще в конце ХIХ столетия ученые обратили внимание на особенности виктимности лиц, имеющих эмоциональные и психические расстройства. В 1895 году Р. Краффт-Эбинг охарактеризовал «бессознательные» состояния, при которых жертва не может оказать сопротивление. К ним он отнес широкий спектр патологических состояний, характеризующихся как полной утратой сознания, так и различными клиническими формами помутнения сознания.
Как показывает ряд проведенных исследований в отношении лиц с психическими расстройствами, можно выделить два типа их виктимного поведения: «пассивно-под-чиняемый» и «псевдопровоцирующий» [6, с. 48]. Первый тип характеризуется тем, что потерпевшие с психическими расстройствами без всякого сопротивления выполняют все требования преступника и не проявляют какой-либо обеспокоенности случившимся либо в силу выраженных волевых расстройств не способны в достаточной мере противостоять преступным посягательствам. В целом для данной группы характерно совершение противоправных актов в отношении них одним и тем же лицом неоднократно, как правило, человеком близким, входящим в круг доверия (например, родственником или соседом). При «псевдопровоцирующем» типе виктимно-го поведения действия жертвы обусловлены имеющимися у нее психопатологическими расстройствами и способствуют формированию криминальной ситуации.
Совокупность обстоятельств в жизни конкретного лица и (или) общества, кото- рые детерминируют процесс превращения данной личности в жертву преступления либо тем или иным образом способствуют содействию реализации этого процесса, называют факторами виктимизации. Они охватывают два уровня: общесоциальный (макроуровень) и индивидуально-групповой (микроуровень), характеризующий влияние семьи и ближайшего окружения.
Семья, будучи ключевым звеном социальной адаптации детей и подростков, обладает значительным виктимогенным потенциалом, ведь уровень безопасности несовершеннолетних в большей степени, нежели для иных представителей социальных групп, определяется стабильностью семьи как социального института.
Базовыми детерминантами нестабильности семьи как социального института являются: низкая материальная обеспеченность семьи, жилищные проблемы и неблагополучное семейное поведение.
Материальное неблагополучие и жилищные проблемы, определяющие в подавляющем большинстве случаев повышенную трудовую занятость родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, негативно отражается на их возможности уделять достаточное внимание вопросам воспитания детей и подростков, контролю их местонахождения и круга общения, что не позволяет должным образом поддерживать высокий уровень их безопасности. В таких условиях дети склонны к бесцельному времяпрепровождению и попаданию в неформальные асоциальные группы.
Неблагополучное семейное поведение как один из факторов вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий выражается в следующих моделях. Во-первых, родители или иные законные представители словесно или на деле утверждают аморальные или даже асо- циальные образцы поведения. Во-вторых, взрослые словесно придерживаются общепринятых нравственных норм и образцов поведения, однако в действительности совершают действия, им противоречащие. В-третьих, родители применяют в отношении несовершеннолетних методы воспитания, основанные на принуждении, насилии или унижении личности ребенка.
Нельзя не указать на уязвимость, с вик-тимологической точки зрения, неполных семей, поскольку трудность осуществления воспитательных функций одним родителем, зачастую матерью, объясняет попадание детей и подростков под влияние взрослого вовлекателя, компенсирующего отсутствие отцовского внимания и авторитета.
Психологическая отчужденность несовершеннолетних от родителей ослабляет социальный контроль и нивелирует механизм наследования морально-этических норм и образцов поведения.
Образование - второй институт социализации после семьи и ближайшего окружения, оказывающий значительное влияние на формирование у человека жизненных установок, ценностных ориентаций, мотивов и привычек поведения и целей деятельности, способов реагирования на конкретные жизненные обстоятельства и ситуации. Чем выше образовательный уровень индивида и уровень его правосознания, тем ниже вероятность формирования у него антиобщественных взглядов и их проявления.
Совершенно противоположные характеристики присущи такому контингенту несовершеннолетних, в психологии и педагогике который определяют как «трудновоспитуемые дети». Сопротивление ребенка целенаправленному педагогическому воздействию, как следствие, незанятость его в образовательном процессе, образует своеобразную пустоту социальной активности, заполняемую участием в неформальных группах асоциальной направленности.
Среди причин вступления несовершеннолетних в неформальные асоциальные группы с отрицательным психологическим климатом можно выявить: потребность в самостоятельности и независимости от взрослых, признании, понимании и дружбе.
В основе виктимизации несовершеннолетних в асоциальных подростковых группах и сообществах заложено действие таких психологических механизмов социализации, как подражание, то есть копирование образцов и норм поведения, внушение, основанное на некритическом восприятии информации, конформизм и идентификация, отождествление себя с асоциальной личностью.
Определив мотив поведения и психологические особенности индивида в качестве ключевых признаков личности несовершеннолетней жертвы вовлечения в совершение антиобщественных действий, можно говорить о трех типах потерпевших:
-
1) конформистский тип, характеризующийся отсутствием эмоциональных и волевых ресурсов для противостояния действиям вовлекателя или давлению асоциальной группы;
-
2) нарцисстический тип, обусловливающий занятие антиобщественной деятельностью стремлением к престижу и уходу от проблем, поиском новых ощущений и приключений;
-
3) аддиктивный тип, характеризующийся наличием ранее приобретенного опыта антиобщественной деятельности и переходом к более опасным по характеру его асоциальным проявлениям.
Заключение
Изучение факторов окружающей макро-и микросреды во взаимодействии их с возрастными особенностями и психофизиологическими характеристиками личности несовершеннолетней жертвы сексуального насилия позволяет выстроить наиболее эффективную систему обеспечения безопасности несовершеннолетних как на общесоциальном, так и на индивидуальном уровнях.
Список литературы К вопросу о виктимологической характеристике несовершеннолетних, жертв сексуального насилия
- Гаджиева, А.А. Гендерный аспект исследований в виктимологии / А.А. Гаджиева //Виктимология. 2019. № 4 (22). С. 36-42.
- Дубницкая, А.В. Проблема профилактики некриминального психического насилиясреди несовершеннолетних // Защита жертв преступлений в современном обществе: материалы IV Международной научно-практической интернет-конференции (Челябинск,2223 февраля 2021 г.) / Отв. ред. А. В. Майоров. Челябинск: Эскуэла, 2021. С. 4653. URL:http://victimolog.ru/index.php/victimo/issue/archive. (дата обращения: 13.03.2022).
- Загуменных, М.А. Виктимность несовершеннолетних при вовлечении их в совершение антиобщественных действий / М.А. Загуменных, В.В. Денисович // Молодой ученый. 2021. № 33 (375). С. 36-38.
- Кабанов, П.А. Несовершеннолетние жертвы современной российской преступности: статистико-виктимологическое измерение (2009-2015 гг.) // Виктимология. 2016.№ 3(9). С. 7-23.
- Кулагина, И.Ю. Психология развития и возрастная психология. Полный жизненный цикл развития человека: учебное пособие / И.Ю. Кулагина, В.Н. Колюцкий. М.: Академический проект, 2018.
- Муллахметова, Н.Е. Жертвы преступлений с психическими расстройствами: виктимологический и уголовно-процессуальный аспекты // Виктимология. 2017. № 2 (12).С. 46 - 50.
- Палазян, А.С. К вопросу об особенностях виктимизации этнических меньшинств //Общество и право. 2014. № 2 (48). С. 138-140.
- Тарасенко, Д.В. К вопросу о социальной характеристике личности несовершеннолетнего, потерпевшего от сексуального насилия // Виктимология. 2018. №1(15). С. 65-68.
- Токарева, А.А. Типы реагирования родителей пострадавших несовершеннолетнихна ситуацию сексуального насилия / А.А. Токарева, М.А. Степанова, В.А. Гладышева //Защита жертв преступлений в современном обществе: материалы IV Международнойнаучно-практической интернет-конференции (Челябинск, 2223 февраля 2021 г.) / Отв. ред.А.В. Майоров. Челябинск: Эскуэла, 2021. С. 109116. URL: http://victimolog.ru/index.php/victimo/issue/archive. (дата обращения: 13.03.2022).
- Шевченко, Г.В. Виктимологическая профилактика вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий: диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук 12.00.08 / Г.В. Шевченко. Москва, 2015. 217 с.