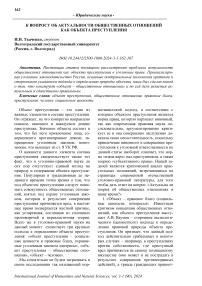К вопросу об актуальности общественных отношений как объекта преступления
Автор: Ткаченко И.Н.
Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 3-1 (90), 2024 года.
Бесплатный доступ
Настоящая статья посвящена рассмотрению проблемы актуальности общественных отношений как объекта преступления в уголовном праве. Проанализировав уголовное законодательство России, основные доктринальные положения критиков и сторонников указанного подхода к определению природы объекта, нами был сделан вывод о том, что конструкт «объект - общественные отношения» и по сей день является актуальным и единственно правильным.
Объект преступления, общественные отношения, правовые блага, преступление, человек, социальные ценности
Короткий адрес: https://sciup.org/170203830
IDR: 170203830 | DOI: 10.24412/2500-1000-2024-3-1-162-167
Текст научной статьи К вопросу об актуальности общественных отношений как объекта преступления
Объект преступления – это один из важных элементов в составе преступления. Он отражает, на что конкретно направлено опасное, виновное и наказуемое деяние преступника. Значение объекта состоит в том, что без него привлечение лица, совершившего противоправное деяние, запрещенное уголовным законом, невозможно, что вытекает из ст. 8 УК РФ.
О важности данного элемента состава преступления свидетельствует также тот факт, что в уголовно-правовой науке до сих пор отсутствует единый взгляд на природу и содержание объекта преступления. Популярная и традиционная до недавнего времени точка зрения о том, что под объектом преступления следует понимать совокупность общественных отношений, взятых под охрану уголовным законом, которым в результате совершения преступления причиняется вред, в настоящее время подвергается жесткой критике, как устаревшая, состоящая из сплошных противоречий и нереалистичная теория. Всего же в уголовно-правовой науки на данный момент существует три крупных подхода к определению объекта преступления: «объект преступления – социальные ценности и правовые блага, охраняемые уголовным законом интересы», «объект преступления – общественные отношения», «объект – человек».
Мы сознательно не будем затрагивать в своем исследовании так называемый нор- мативистский подход, в соответствии с которым объектом преступления является норма права, которую нарушает виновный, так как современная правовая наука последовательно, аргументированно критикует ее и она совершенно заслуженно доказала свою несостоятельность, поскольку привлечение виновного в совершении преступления к уголовной ответственности по данной статье наоборот означает, что норма «взяла верх» над преступником, а также теорию «субъективного права». Нашей задачей является критический анализ краеугольных положений, встречающихся на страницах современной отечественной уголовно-правовой литературы, для того чтобы дать ответ на вопрос: «Актуальна ли теория об общественных отношениях в наше время?»
-
1. «Объект – правовое благо (социальные ценности, интересы)» .Известным критиком концепции общественных отношений, как объекта преступления выступает А.В. Наумов – сторонник аксиологического (ценностного) подхода к определению правовой природы объекта преступления. Он признает, что данный подход действительно срабатывает в некоторых случаях – например, в преступлениях против собственности, где преступный вред причиняется не самому похищенному имуществу (оно может и не пострадать в результате совершения противоправных действий), а триаде гражданских правоот-
- ношений по владению, пользованию и распоряжению соответствующим имуществом. Что же касается преступлений против личности, то с конструктом «объект – общественные отношения» автор категорически не согласен, объясняя это тем, что при таком подходе человек как биологическое существо и жизнь как биологическое явление уходят на второй план, теряют свое значение. Уголовный закон, по его мнению, охраняет именно жизнь как принадлежащее человеку благо, а не совокупность абстрактных общественных отношений [1]. Таким образом, объект преступления по А.В. Наумову – это правовое благо, подвергающееся нарушению со стороны лица, совершающего преступление.
-
2. «Объект – человек». Оригинальной является концепция «объект преступления – человек» (далее – антропологический подход ). Характеризуя эту научную позицию, прежде всего необходимо сослаться на мнение Г.П. Новоселова, утверждающего, что произошедшее преступление создает изменения в окружающей действительности, и изменения могут стать вредными только для человека, чьи материальные и нематериальные ценности поставлены под охрану, а не для общественных отношений и материальных благ [4]. Данная позиция кажется нам неверной, так как в уголовном законодательстве существуют составы преступлений, направленных против природной среды, где вред причиняется животному и растительному миру. Кроме того, в данном случае происходит сращивание понятий «потерпевший» и «объект преступления», что неверно по своей сути, поскольку это два разных значения.
-
3. «Объект – общественные отношения». Суть этой научной позиции состоит в том, что без нарушения соответствующих связей (общественных отношений, взятых под охрану законом) между людьми, сложившимися по поводу определенных благ, используемых для удовлетворения их потребностей и реализации интересов, отсутствует и само преступление. И.Я. Козаченко утверждает, что «общественные отношения являются социальной тканью человеческого бытия, необходимым связующим звеном, обеспечивая участие человека в общественной жизни и возможность быть участником общественных процессов, составляющих основу человеческого бытия» [5]. При этом, как правильно отмечает А.И. Чучаев, в результате преступления вред наносится не самим общественным отношениям, поскольку они неосязаемы и недоступны для внешнего воздействия, а следующим их структурным компонентам:
Сквозь призму аксиологического подхода объект преступления предлагает рассматривать Карабанова Е.Н. К такому выводу автор пришла путем анализа положений статьи 2 Конституции России, где указано, что права и свободы человека и гражданина признаются наивысшей ценностью в Российской Федерации, разъяснений судебных органов, содержащихся в Постановлениях Пленума Верховного Суда РФ (например, ПП ВС РФ от 27.09.2012 №19 «О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление») и решений Конституционного Суда Российской Федерации, решений Европейского суда по правам человека. В анализируемых автором нормативных, разъяснительных и правоприменительных источниках прямо указано, что объектом преступления выступают охраняемые уголовным законом социальные ценности. Таким образом, по мнению Карабановой Е.Н., не человек является объектом государственной защиты, принадлежащие ему права и свободы, через которые и обеспечивается его государственная защита [2]. Сторонником аксиологической теории является также Пашковская А.В. Определяя в качестве объекта преступления социальные ценности, правовые блага и интересы, ученая исходит из того, что это понятие шире по своему содержанию, чем общественные отношения. Более того, общественные отношения в контексте объекта преступления являются частью социальных ценностей [3].
-
1) субъектам общественных отношений в лице личности, группы людей, общественных организаций, государства и т.д.;
-
2) взаимосвязям между людьми, их деятельности, принадлежащим им правам и обязанностям;
-
3) материальным и нематериальным ценностям и благам, по поводу получения которых участники отношений вступают в социальные связи [6].
Сущность данной теории заключается в следующем: осознавая важность развития общества, общественных институтов, полезных социальных связей, сотрудничества между гражданами, направленного на удовлетворение их взаимных потребностей и интересов, государство посредством использования способов правового регулирования общественных отношений (дозволение, запрет, обязывание) и задействования возможностей своих рычагов управления (силовой аппарат и т.д.) устанавливает правила поведения. В результате этого в обществе возникает порядок, стабильность, складывается согласие, уважение всех членов друг к другу, что достигается при помощи добровольного исполнения и реализации участниками общественных отношений принадлежащих им прав и обязанностей. Так, право на жизнь и личную неприкосновенность человека и гражданина означает одновременное существование обязанности другого лица уважать это право и не допускать воздействия на него. В случае же с правонарушением в обществе не возникают социальные отношения, которые соответствовали бы норме права, - напротив, возникают отношения, наступление которых нежелательно для общества и государства, т.к. они дестабилизируют общественный порядок и правопорядок, создают препятствия для граждан в реализации их прав, удовлетворения потребностей и интересов, падает авторитет права и государства. Cоветский и российский юрист С.Н. Братусь отмечал, что общественные отношения разрушаются, когда нарушаются обязанности, установленные правовыми, моральными и иными социальными нормами, регулирующие отношения между людьми [7].
Как было сказано ранее, критики подхода «объект – общественные отношения» отмечают его абстрактность, схоластичность, снижение значимости таких благ, принадлежащих человеку, как жизнь, свобода, неприкосновенность, возможность обладать имуществом, замене этих благ на некий неосязаемый метафизический конструкт. Эта оценка, по нашему мнению, является необоснованной, т.к. авторы выпускают из виду одно очень важное обстоятельство – невозможность существования правовых благ, социальных ценностей, охраняемых законом интересов вне сферы взаимодействия людей, которыми как раз и являются общественные отношения. Социальной философией доказано, что любая потребность человека удовлетворяется на основе достигнутого обществом уровня развития. Вне общественных отношений удовлетворение потребностей невозможно, поскольку они носят социальный характер и входят в систему потребностей общества.
Одним из сторонников определения природы объекта преступлений как общественных отношений является В.С. Прохоров. Автор утверждает, что интересы, правовые блага и социальные ценности не существуют сами по себе в вакууме, как и общественные отношения. По его мнению, с которым мы солидаризируемся, общественные отношения возникают по поводу определенных интересов для получения благ или ценностей [8]. В этом случае указанные категории выступают объектами общественных отношений. Данную точку зрения развивает В.П. Ревин, справедливо отмечая, что общественные отношения по своей сути являются формой реализации интересов человека и общества и вне этих отношений [9].
Более того, верна, по нашему мнению, позиция того же В.С. Прохорова о том, что социальные ценности и блага с течением времени могут быть видоизменены в противоположную сторону, но потребность сохранении порядка и стабильности общества от преступных посягательств будет существовать всегда [8]. Под воздействием объективных общественных процессов отношение к тем или иным ценностям может видоизмениться. Изменения выражаются в том числе в появлении новых благ под воздействием социального развития
(например, достижение научнотехнического прогресса привели появлению цифровых технологий). Естественно, что трансформация ценностей и благ отражается на преобразовании общественных отношений, но общественные отношения имеют первичный характер и существуют всегда, а потому потребность в их регулировании также будет существовать всегда.
Следует признать правильной точку зрения Н.Г. Иванова о том, что сущность рассмотрения объекта преступления в виде общественных отношений состоит еще и в том, что при противоправного деяния преступник нарушает сложившийся в обществе консенсус, устойчивые социальные связи, поскольку причинение вреда одному конкретному человеку, его материальному или нематериальному благу создает у других членов общества опасение, что подобные деяния будут совершены и в их отношении [10]. Таким образом подрывается взаимное доверие и уважение граждан друг к другу, к сложившемуся порядку, возникает так называемое состояние «войны всех против всех», обоснованное еще английским философом Т. Гоббсом. Иными словами, закон в равной форме охраняет права и интересы каждого человека или гражданина - Петрова, Сидорова, Иванова и пр., равно как государство устанавливает одинаковые обязанности для всех членов общества по недопущению противоправного деяния. Совершение преступления в отношении хотя бы одного из них будет означать нарушение общественного порядка, гарантирующего и охраняющего право каждого на жизнь.
Аксиологический и антропологический подходы оставляют без ответа ряд важных вопросов, имеющих существенное значение, в том числе для квалификации преступлений и нормальной деятельности правоохранительных органов. В качестве главного недостатка данных интерпретаций объекта преступлений О.С. Капинус называет то обстоятельство, что понятие преступления теряет один из главнейших признаков - общественную опасность [11]. В самом деле, о какой общественной опасности может идти речь, если в соответ- ствии с аксиологическим подходом вред причиняется конкретному благу, ценности, интересу? Напротив, такое свойство более характерно для общественных отношений, так как совершение преступления причиняет им вред, подрывает сложившийся порядок взаимодействия людей, тем самым создавая опасность для нарушения прав и интересов не только одного человека, но и всего общества в целом.
Пробел в данных теориях возникает и при оценке действий лица, совершившего выстрел в мертвого человека, о смерти которого виновный не знал и не мог знать. По требованиям уголовного закона эти действия следует квалифицировать как покушение на убийство, ибо деяние и умысел виновного было направлены на неправомерное лишение жизни потерпевшего, но общественно опасные последствия не наступили по причинам, которые не зависели от воли преступника. Однако такая возможность привлечения существует только в случае признания объектом преступления общественных отношений. Как совершенно справедливо отмечает Н.Е. Крылова, в этой ситуации действиями преступника жизнь человека не ставится даже под угрозу. Единственное разумное объяснение состоит в том, что совершая свое злодеяние, виновное лицо переступает через закон, нарушая возложенную на него обязанность по признанию права на жизнь другого гражданина и недопущению неправомерного воздействия на него, преступник нарушает общественные отношения, гарантирующие право человека на жизнь [12].
Здесь также следует вспомнить и о том, что закон в некоторых случаях допускает возможность лишения жизни другого человека. Речь идет об убийстве, совершенном в состоянии необходимой обороны, а также в исполнении наказания в виде смертной казни. Аксиологическая теория понимания объекта преступления не очерчивает ту границу дозволенного и недозволенного. Убийство, совершенное в состоянии необходимой обороны, признается правомерным поведением ровно потому, что существуют соответствующие санкционируемые государством обще- ственные отношения, гарантирующие нении смерти нападающему общественные каждому человеку право на неприкосновенность. В противном случае, если признать объектом уголовно-правовой охраны правовое благо, становится неизвестно, на каком основании совершено лишение жизни человека. Н.И. Коржановский полагал, что «если объект был взят под охрану уголовного закона, он в это же время должен им защищаться» [8]. Иными словами, если жизнь человека как биологического отношения, урегулированные законом, не страдают, а наоборот защищаются от нарушителя порядка сосуществования и взаимодействия людей в обществе. Это в очередной раз доказывает несостоятельность конструктов «объект – правовое благо» и «объект – человек». Кроме того, они несут в себе опасность неправильного понимания института необходимой обороны, приводят к фактическому стиранию граней существа поставлена под охрану уголов- между правомерным и неправомерным ного закона, то недопустимо причинение смерти лицу ни при каких обстоятельствах. Подход к пониманию объекта преступления как общественных отношений же наоборот исходит из того, что при убийстве в состоянии необходимой обороне отсутствует объект преступления, поскольку существующие общественные отношения допускают применение силы обороняющемуся лицу в отношении посягающего на его жизнь человека и, соответственно, урон наносится не социальным отношениям, а нападающему лицу. Однако, если человеком движут не мотивы защитить свою жизнь, а что-то иное, появляется объект преступления – общественные отношения, обеспечивающие право на жизнь человека и гражданина.
Таким образом, правовым благам (социальным ценностям, интересам), охраняемых УК РФ, невозможно причинение вреда даже в состоянии необходимой обо- роны, поскольку правовые нормы защищают жизнь каждого отдельного человека. В это же время, при правомерном причи- лишением жизни, что может в последующем привести к невозможности защиты своей жизни, в том числе путем причинения смерти злоумышленнику в состоянии самообороны.
Итак, концепция, признающая объектом преступления общественные отношения, несмотря на всю критику в ее адрес, кажется нам наиболее проработанной и убедительной. Только она объясняет, почему преступление обладает свойством общественной опасности, может влечь за собой наступление общественно опасных последствий. Уход от этого подхода, как нам кажется, может создать серьезные проблемы в понимании института необходимой обороны и крайней необходимости в уголовном праве, вызвать трудности в функционировании правоохранительных органов и квалификации деяний.
Мы не можем не согласиться с мнением Сырых, что «предметы, блага, животные и иные ценности не могут рассматриваться объектом правонарушения, поскольку они являются объектом правоотношений».
Список литературы К вопросу об актуальности общественных отношений как объекта преступления
- Наумов А.В. Российское уголовное право. Общая часть: курс лекций. - 6-е изд., пе-рераб. и доп. - Москва: Проспект, 2017. - 784 с.
- Карабанова Е.Н. Понятие объекта преступления в современном уголовном праве // Журнал российского права. - 2018. - №6 (258).
- Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник для вузов / Под ред. В.С. Комиссарова, Н.Е. Крыловой, И.М. Тяжковой. - М.: Статут, 2012.
- Козаченко, И.Я. Уголовное право. Общая часть: учебник для вузов / И.Я. Козаченко, Г.П. Новоселов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва: Издательство Юрайт, 2022. - 430 с.
- Уголовное право России. Часть Общая: учебник для бакалавров / отв. ред. проф. Л.Л. Кругликов. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект, 2013. - 568 с.
- Уголовное право. Общая часть: учебник для бакалавров / под ред. А.И. Чу- чаева. -2-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект, 2015. - 456 с.
- Константинов А.В. К вопросу о правовом регулировании общественных отношений // Вестник науки и образования. - 2015. - №9 (11).
- Уголовное право России. Общая часть. Учебник / под ред. В.В. Лукьянова, В.С. Прохорова, В.Ф. Щепелькова, перераб. и доп. - СПб.: Издательство СПбГУ, 2013. -600 с.
- Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. В.П. Ревина. - М.: Юсти-цинформ. 2016. - 580 с.
- Иванов Н.Г. Курс уголовного права. Общая часть: учебное пособие. - Москва: Проспект, 2020. - 784 с.
- Уголовное право России. Общая часть: учебник для бакалавриата, специалитета и магистратуры / О.С. Капинус [и др.]; под редакцией О.С. Капинус. - 2-е изд. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 704 с.
- Крылова Н.Е. О понятии объекта преступления // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. - 2013. - №6.