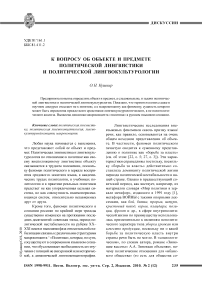К вопросу об объекте и предмете политической лингвистики и политической лингвокультурологии
Автор: Кушнир О.Н.
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Дискуссии
Статья в выпуске: 2 (12), 2010 года.
Бесплатный доступ
Предпринята попытка определить объект и предмет, а следовательно, и задачи политичес- кой лингвистики и политической лингвокультурологии. Показано, что термин политика даже в научном дискурсе отсылает не к понятию, а к макроконцепту как феномену, сущность которого может быть определена прежде всего средствами лингвокультурологического, а не политологи- ческого анализа. Выявлена динамика макроконцепта «политика» в русском языковом сознании.
Политическая лингвистика, политическая лингвоконцептология, лингвокультурный концепт, макроконцепт
Короткий адрес: https://sciup.org/14969482
IDR: 14969482 | УДК: 81161.1
Текст научной статьи К вопросу об объекте и предмете политической лингвистики и политической лингвокультурологии
Любая наука начинается с выяснения, что представляют собой ее объект и предмет. Политическая лингвистика и лингвокуль-турология по отношению к политике как своему внеположенному лингвистике объекту оказываются в трудном положении, поскольку феномен политического в зеркале восприятия «рядового» носителя языка, в академических трудах политологов, в учебниках политологии и в практике реальных политиков предстает не как упорядоченная цельная система, но как совокупность взаимопересека-ющихся систем, относительно независимых друг от друга.
Кроме того, феномен политического в сознании россиян по крайней мере трижды существенно изменялся на протяжении последних десятилетий: советская эпоха, период политической нестабильности на рубеже XX– XXI веков и нынешняя фаза относительной стабилизации связаны с различными структурами макроконцепта 1 «Политика», которые, по сути, сосуществуют в современном языковом сознании, что обусловливает необходимость его изучения с позиций не синхронной или исторической, а динамической лингвоконцептографии.
Лингвистические исследования вне-языковых феноменов сквозь призму языка/ речи, как правило, основываются на очень общем исходном представлении об объекте. В частности, феномен политического зачастую сводится к суженному представлению о политике как «борьбе за власть» (см. об этом: [22, с. 5; 27, с. 3]). Эти характеристики справедливы постольку, поскольку «борьба за власть» действительно составляла доминанту политической жизни периода политической нестабильности в нашей стране. Однако в предшествующий советский период, как явствует, например, из материалов словаря «Мир политики в зеркале метафор», изданного в 1991 году [1], метафора ВОЙНЫ с такими опорными лексемами, как бой, битва, прорыв, штурм, крестовый поход, взрыв, плацдарм, позиции, фронт и др., в сфере внутриполитической жизни по преимуществу использовалась применительно к явлениям неполитического характера типа уборка урожая или качество продукции, поскольку ни о какой борьбе за политическую власть внутри страны речи быть не могло. В «социологическом», по словам автора, романе «Зияющие высоты» А.А. Зиновьев объясняет, почему политические отношения для «ибанс-кого общества» (то есть для общества со- ветского, политическая ментальность которого во многом не изжита до сего дня) нехарактерны [6, с. 537–538]. Смысл лозунга советских времен «Народ и партия едины» заключался не в декларации единства, а в утверждении, что партия – единственная реальная политическая сила и власть, исключающая наличие каких-либо очевидных противников или хотя бы оппонентов.
В современных условиях, в начавшиеся 10-е годы XXI века, в период относительной стабилизации внутриполитической жизни, ядро содержания концепта «Власть» как составной части макроконцепта «Политика» оказывается связанным прежде всего не с концептом «Борьба за власть», как в период нестабильности, или с концептом «Манипуляция сознанием», что было отличительной чертой советских времен (см., например, книгу С.Г. Кара-Мурзы, на протяжении последних лет считающуюся политическим бестселлером [8]), а с концептом «Управление обществом», что хорошо соотносится с академическим определением власти , принятым в сфере права [23, с. 129]. Следовательно, лингвистические аспекты исследования феномена политики в современных условиях не могут основываться на представлении о «борьбе за власть» как наиболее актуальном – необходим комплексный лингвоэпистемологический анализ феномена политики как объекта и предмета политической лингвистики и политической лин-гвокультурологии с целью выявления содержания и структуры той ядерной части макроконцепта «Политика», которая является общей для разных периодов исторической жизни нашей страны.
Следуя логике определения объекта и предмета, принятой в эпистемологии (см., например: [28, с. 642, 732]), объект политической лингвистики можно определить как языковые/речевые средства, которые, во-первых, напрямую отражают специфику содержания предметной области «Политика» как объекта науки политологии (и тем самым принадлежат ядерной части лингвокультурного макроконцепта «Политика»); во-вторых, образуют ближайшую периферию предметной области «Политика» как объекта политологии, формирующейся на пересечениях с предметными областями других наук, например эко- номики, социологии, что фиксируется в терминах политическая экономия, языковая политика, социальная политика; в-третьих, относятся к дальнейшей периферии, связанной со вторичными значениями существительного политика, обусловленной его употреблением в обиходной сфере (семейная политика, страусовая политика); предмет политической лингвистики определяется как система языковых/речевых средств, цели и способы их использования в политическом дискурсе, понимаемом как коммуникация/обще-ние 2 в ситуациях, принадлежащих сфере политического.
Основной феномен, изучаемый лингво-культурологией, – лингвокультурный концепт; следовательно, объект политической линг-вокультурологии – макроконцепт «Политика» как целое и составляющие его частные политические концепты, предмет – содержание и структура макроконцепта «Политика», рассматриваемые сквозь призму способов их опредмечивания средствами естественного языка. Конкретизация объекта и предмета в частных лингвокультурологических исследованиях феномена политики связана с отдельными сферами политической деятельности, например: внутренняя/внешняя/социальная /молодежная/церковная... политика или политика в сфере образования/спорта/ культуры/науки/искусства и т. д.
Поскольку политика в целом, независимо от того, какую сферу жизни общества она регулирует, – это вид человеческой деятельности , то ее специфическое содержание определяется конкретикой трех базовых составляющих, которые характеризуют любую деятельность: субъект , объект , содержание деятельности (субъекта по отношению к объекту) (ср., например, академическое определение понятия «деятельность», принятое в психологии: «Деятельность – активное взаимодействие с окружающей действительностью, в ходе которого живое существо выступает как субъект, целенаправленно воздействующий на объект и удовлетворяющий таким образом свои потребности » [3, с. 165]).
Политическая лингвистика выясняет: (1) какими языковыми/речевыми средствами, (2) с какими целями пользуются в политическом дискурсе. Политическая лингвокуль- турология, основываясь на языковых/речевых данных, ищет ответ на следующие базовые вопросы о составе и структуре макроконцепта «Политика»: (1) кто/что (2) по отношению к кому/чему (3) что делает в сфере политического. Совокупность ответов на эти три вопроса ведет к реконструкции представлений носителей языка о том, что это такое – политика. В предельном разграничении можно сказать, что политическая лингвистика занимается политическим языком/речью, политическая лингвокультурология – политическим языковым/речевым сознанием.
Предложенные характеристики, нацеленные на ясное различение политической лингвистики и политической лингвокультурологии и представляющиеся автору данной статьи очевидными, разумеется, не могут претендовать на полноту и завершенность, поскольку политическая лингвокультурология пока не может рассматриваться как «институционализированная» дисциплина, а в исследовательской практике политической лингвистики бытуют разные трактовки ее содержания и назначения, что побуждает специалистов в этой новой области лингвистического знания совершенно справедливо констатировать: «Экстенсивная активность здесь стала захватывать сегодня не только печатные площади, но и вузовские учебные программы, спецкурсы, пособия и проч., заметно опережая уровень согласия в минимально общепризнанном статусе формирующейся дисциплины – политической лингвистики» [16, с. 4]. Так, первое учебное пособие по политической лингвистике, вышедшее в нашей стране, открывается двумя существенно различающимися характеристиками этой области знания [26, с. 5, 8]. Трудно согласиться с авторами в отождествлении или хотя бы в признании квазисинонимичности «манипуляции» и «коммуникации», «борьбы за власть» и «пропаганды».
Эти симптоматические различия обусловлены многообразием представлений о политике как институциональной и обиходной социальной практике, что ставит политическую лингвокультурологию перед задачей выявить состав и структуру ядерной части макроконцепта «Политика». В методологическом основании – различение двух подходов: 1) макроконцепт «Политика» в его фундиро-ванности содержанием термина политика в научном знании (в системе политических наук, прежде всего в политологии) и теми смыслами, которые связаны с употреблением существительного политика в институциональном политическом дискурсе; 2) в его фундирован-ности теми представлениями о политике, которые бытуют «в народе» – в обиходном (обыденном, вненаучном) сознании носителей языка – и находят отражение в неинституциональном дискурсе «о политике».
«Ближайшие» очевидные источники в рамках первого подхода – политологические издания, прежде всего такие, которые нацелены на отображение относительно устоявшихся научных представлений о политике (например, учебники и энциклопедии), в рамках второго – филологические словари и публикации, отражающие понимание политики людьми, институционально со сферой политического не связанными; круг «дальнейших» источников в максимуме охватывает практически все написанное и сказанное людьми, но в минимуме это, с одной стороны, специальная политологическая литература, с другой – результаты специальных исследований в рамках политической лингвистики и политической лингвокультурологии, основывающиеся на самом различном языковом/речевом материале. В дальнейшем изложении автор ограничивается кругом «ближайших» источников.
Для политологических дефиниций политики характерны высокая степень разнообразия – опора на различные признаки, признаваемые существенными, в том числе в работах одного и того же автора, и недостаточно ясное разграничение, с одной стороны, научного знания, с другой – обыденных представлений о политике [14, с. 6; 15, с. 396; 19, с. 4].
Разночтения в трактовке сущности политического, логико-лингвистическая невыс-троенность дефиниций понятия «политика» – при наличии огромной научной и учебной литературы, которая нацелена на возможно более широкую характеристику предметной области «Политика», – побуждают заключить, что термин политика даже в научном дискурсе отсылает не к понятию, но к концепту, точнее – макроконцепту как феномену, сущность которого может быть выявлена прежде всего средствами лингвокультурологического, а не политологического анализа.
Эпистемологическая целесообразность анализа макроконцепта «Политика» как лингвокультурного феномена, отражающего реальности именно обыденного языкового сознания, в отличие от сознания научного, обусловливается тем, что лингвокультурный концепт – явление холистическое, синкретичное, в силу чего он может рассматриваться как сущностное ядро, отражением которого является понятие – во всяком случае, в гуманитарной сфере (по мудрым суждениям В.В. Колесова, «концепт, являясь “чистым смыслом” сам по себе, не может быть многозначен – он синкретичен» [10, с. 120]; «концепт есть сущность, явлением которой выступает понятие» [там же, с. 404]).
Семантическое ядро лингвокультурологического макроконцепта «Политика» находит отражение в дефинициях толковых филологических словарей, которые, в отличие от политологической литературы, выступая как источник сведений не о научных, а об обыденных представлениях носителей языка о сфере политического, отчетливо фиксируют именно обиходные представления о политике – как сфере взаимодействия общества и государства на основе отношений власти , – именно общества , а не народа , поскольку понятие «народ» связано с представлением о целостности, а понятие «общество» – о расчлененности, что зафиксировано еще в Словаре В.И. Даля [5, с. 461, 634].
Современное филологическое словарное толкование существительного политика отражает обиходные представления, в соответствии с которыми существо феномена политического – во властных взаимоотношениях общества и государства, при доминантной направленности властных отношений «от государства к обществу» [18, с. 902]. Предложенная предельно обобщенная формулировка обиходных представлений о политике одновременно является и характеристикой семантического ядра лингвокультурологического макроконцепта «Политика» как складывающегося из частных концептов «Общество», «Государство» и «Власть». В рамках этой триады концепт «Власть» выступает в векторной функции: властные отношения могут быть направлены либо «от общества к государству», либо «от государства к обществу»3. В советский период нашей истории актуализованным был только второй из этих векторов. В постперестроечный (точнее, в постсоветский) период несколько актуализируется первый вектор, что отражается в актуализации лексемы политизация в значении «пробуждение интереса к политике, политической жизни» [24, с. 473] и в появлении антонима этой лексемы – деполитизация в значении «ослабление политической активности, утрата интереса к политике» [там же, с. 202].
Заметим, однако, что для современного языкового сознания 10-х годов XXI века, отражающего период относительной стабилизации внутриполитической жизни, не стоит преувеличивать значимость лингвокультурологического вектора «от общества к государству», о чем, казалось бы, свидетельствует появление целого неологического словообразовательного гнезда: политизация с потенциальным мотивирующим глаголом политизиро-вать(ся) и производными политизированный, политизированность ; деполитизиро-вать и деполитизация, деполитизирован-ный . Эти лексемы употребляются по преимуществу в публицистической речи, отражают такую оценку состояния общественного сознания, которая делается людьми, профессионально связанными именно со сферой политического, и появление таких слов не может служить основанием для заключения, что современное русское языковое сознание политизировано.
Политизация российского общества – феномен временный, характерный только для периода нестабильности; в периоды стабильности наше общество «по умолчанию» предоставляет заниматься политикой в ее различных функциях государству, то есть политикам профессиональным. Лингвокультурологический макроконцепт «Политика» в языковом сознании «рядовых» носителей языка в такой исторический период оказывается деактуали-зованным, и гениальная пушкинская формула «Народ безмолвствует», завершающая драму «Борис Годунов», вполне приложима к современной ситуации. Очевидная поддержка нынешней государственной власти обществом не позволяет рассматривать его как самостоятельную политическую силу. Такое положение дел точно соответствует не только инту- итивно очевидному всем, но и признаваемому специалистами по философии политики феномену восприятия россиянами власти «как чего-то отчужденного от народа», ощущения «отделенности государственной власти от населения» [17, с. 31, 33].
Деактуализацию макроконцепта «Политика» не следует интерпретировать как отчуждение российского общества от политики, а значит – от государства. Следует учитывать как факторы отсутствия отчуждения, во-первых, что в языковом сознании россиян лингвокультурный концепт «Государство» (как официальная, формальная структура) занимает лингвокультурологически подчиненное положение по отношению к концепту «Родина» – актуализованному независимо от конкретной исторической ситуации; во-вторых, что типологическая черта российского менталитета 4 – антиномичный дуализм, противоречиво соединяющий в рамках одного свойства логически несоединимые явления: индивидуализм и группизм (с другими акцентировками – коллективизм, соборность), трудолюбие и леность, стремление к новому и догматизм, в том числе авторитаризм как склонность безоговорочно склоняться перед властью и анархизм 5 .
Государство и Родина в русском сознании нераздельны; эту нераздельность в свое время отмечал И.А. Ильин [7, с. 257], перифразируя которого можно сказать, что в основе русского менталитета – синергийное, несмотря на антиномичность, взаимодействие общества и государства в рамках цельности концепта «Родина».
Русский «авторитаризм» и связанную с ним деактуализованность концепта «Политика» целесообразнее интерпретировать как патриотизм и доверие власти, чем как примитивную покорность. Об этом хрестоматийно глубоко и художественно убедительно говорит Л.Н. Толстой на протяжении всего романа «Война и мир». Достаточно вспомнить характеристику внутреннего состояния Безухова накануне Бородинского сражения и более значительный факт – решение Кутузова оставить Москву. Доказательством правомерности предложенной интерпретации может служить и докладная записка графа С. Уварова императору «О некоторых общих нача- лах, могущих служить руководством при управлении Министерством народного просвещения» от 19 ноября 1833 года [25], пафос которой заключается в поиске начал, способных позволить России противостоять всеобщему падению религиозных и гражданских учреждений в Европе. Такими началами граф С. Уваров считал Православие, самодержавие и народность; в другой формулировке это – Бог, царь и Отечество, а в современном прочтении этих ценностей – духовные основы общества, прочная «вертикаль власти» и патриотизм, основывающийся на осознании своего национального своеобразия.
Поскольку общество зависимо от политических решений, то причиной отчуждения не может быть само общество; его отчуждение от политики лишь следствие того, что оно оказывается отстраненным от политики, не включенным в политические отношения .
Понятие «отношения» предполагает наличие минимум двух взаимосвязанных сторон, в общем случае они могут быть охарактеризованы как «горизонтальные» или «вертикальные» – как отношения равенства или неравенства. Если одна сторона политических отношений – общество , а вторая – государство и если общество воспринимается как отстраненное от политики, то оказывается, что единственный субъект политики в восприятии носителей языка – государство и представляющие его облеченные властью лица. При наличии только одного субъекта «политические отношения» либо исчезают, либо, как минимум, оказываются нехарактерными; их место занимают отношения власти и подчинения.
Состояние отстраненности общества от политики отражено в современной «Большой актуальной политической энциклопедии», в которой словарная статья «Общество» отсутствует (наличествуют только статьи, трактующие производные понятия «Общественная палата» и «Общество потребления»). Толкование государства в этой энциклопедии не включает идентификатор «общество»; в качестве словарного идентификатора используется составной термин «политическая система» [2, с. 64, 239].
Можно заключить, что обиходное, массовое сознание «рядового» носителя языка, не владеющего специальными знаниями, неред- ко воспринимает содержательное ядро макроконцепта «Политика» как деятельность людей, борющихся за власть, чтобы пользоваться ею в своих личных или узкогрупповых целях. Такое понимание объясняет содержание и структуру ассоциативного поля «Политика», как они выявляются в массовом ассоциативном эксперименте [21, с. 475].
Таким образом, макроконцепт «Политика», рассматриваемый в контексте динамической лингвокультурологии 6, в его современном восприятии оказывается существенно меняющимся – возможно, даже утрачивающим исконное концептуальное ядро, суть которого в обобщенной характеристике « Государство – это способ организации и средство управления обществом ». Новые акту-ализующиеся концепты отчетливо просматриваются в такой, например, формулировке известного канадского культуролога М. Маклюэна: «Сегодняшний тиран руководит уже не с помощью дубины или кулака, но, выступая как исследователь рынка, он гонит свои стада дорогой удобства и комфорта» (цит. по: [20, с. 21]). Концепты «Рынок», «Удобство/Ком-форт», безусловно, оказываются актуальными и для современного русского лингвокультурного восприятия макроконцепта «Политика», однако доминантным для сегодняшнего состояния российского общества целесообразно считать, как было показано выше, концепт «Родина/Отечество».
Список литературы К вопросу об объекте и предмете политической лингвистики и политической лингвокультурологии
- Определяя концепт как перцептивно-когнитивно-аффективный феномен (см. об этом: [12, с. 162-164]), мы говорим и о его иерархически-полевой природе, в соответствии с которой макроконцепт занимает верхний уровень иерархии и представляет собой совокупность строящихся на едином семантическом основа-нии, но относительно автономных концептов (см. об этом: [11; 13]).
- Целесообразность различения этих понятий обусловлена пониманием коммуникации как «со-общения или передачи средствами языка содержания высказываний», общения -как «взаимных сношений, деловой или дружественной связи (на основе использования средств естественного языка)»
- При этом субъект собственно властных отношений не обязательно «государство» или «общество», это может быть и некая внеположная им сила (например, финансовая олигархия, Церковь, криминалитет).
- Именно российского, а не русского, поскольку речь идет не об одном -пусть самом крупном -народе нашей страны, а о нации в целом.
- В лингвокультурологии диахронические факторы понимаются обычно как учет в интерпретации современного состояния концептуария данных его истории, прежде всего этимологических. Между тем черты развития просматриваются в синхронном состоянии современного русского языка, понимаемом как система и как ее реализация в речевых явлениях различной функционально-стили-стической природы (см. об этом: [4]).
- Баранов, А. Н. Русская политическая метафора (материалы к словарю)/А. Н. Баранов, Ю. Н. Караулов. -М.: Ин-т рус. яз., 1991. -192 с.
- Большая актуальная политическая энциклопедия: Настольная книга современного политика: 1000 актуальных понятий современной политической жизни/ред.-сост. А. В. Беляков, О. А. Мат-вейчев. -М.: Эксмо, 2009. -412 с.
- Большой психологический словарь/под ред. Б. Г. Мещерякова, В. П. Зинченко. -М.: АСТ Москва; СПб.: Прайм-Еврознак, 2009. -811 с.
- Волков, В. В. Лингвоконцептология и лингво-концептография: аспекты взаимодействия/В. В. Волков, О. Н. Кушнир//Стратегия исследования языковых единиц: материалы Твер. междунар. науч.-практ. конф. -Тверь: Изд-во ТвГУ, 2009. -С. 3-9.
- Даль, В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т./В. И. Даль. -Репр. изд. -М.: Рус. яз., 1999. -Т. 2. -780 с.
- Зиновьев, А. А. Зияющие высоты: роман/А. А. Зиновьев. -М.: Эксмо, 2008. -736 с.
- Ильин, И. А. Путь к очевидности/И. А. Иль-ин. -М.: Республика, 1993. -431 с
- Кара-Мурза, С. Г. Манипуляция сознанием/С. Г. Кара-Мурза. -М.: Эксмо, 2009. -528 с.
- Картавый, М. А. Методологические принципы формирования российского менеджмента/М. А. Картавый, А. Н. Нехашкин//Менеджмент в России и за рубежом. -1999. -№ 3. -С. 56-68.
- Колесов, В. В. Философия русского слова/В. В. Колесов. -СПб.: ЮНА, 2002. -448 с
- Кушнир, О. Н. Иерархически-полевая природа концептосферы: концепты и макроконцепты/О. Н. Кушнир//Слово, высказывание, текст в когнитивном, прагматическом и культурологическом аспектах: сб. ст. участников V Междунар. науч. конф. В 2 т. Т. 1. -Челябинск: Энциклопедия, 2010. -С. 79-82.
- Кушнир, О. Н. О задачах динамической лин-гвоконцептографии/О. Н. Кушнир//Семантика языка и текста: материалы X междунар. науч. конф. -Ивано-Франковск: Изд-во Прикарпат. нац. ун-та им. В. Стефаника, 2009. -С. 162-164.
- Кушнир, О. Н. О иерархически-полевой природе концептосферы/О. Н. Кушнир//Национально-культурный компонент в тексте и языке: материалы IV Междунар. науч. конф. В 2 ч. Ч. 1. -Минск: Изд-во Мин. гос. лингв. ун-та, 2009. -С. 57-59.
- Мухаев, Р. Т. Политология: учеб. для студентов вузов/Р. Т. Мухаев. -3-е изд., перераб. и доп. -М.: Юнити-Дана, 2008. -495 с
- Мухаев, Р. Т. Политология: учеб. для студентов юрид. и гуманит. фак./Р. Т. Мухаев. -М.: Приор, 2000. -400 с.
- Мухарямов, Н. М. Вместо предисловия. О предметном поле политической лингвистики/Н. М. Мухарямов, Л. М. Мухарямова//Трансграничные языковые отношения: Очерки политической лингвистики/под ред. М. Н. Закамулиной, Н. М. Мухарямова. -Казань: Каз. гос. энерг. ун-т, 2008. -С. 4-32.
- Неретина, С. С. Концепты политического сознания/С. С. Неретина, А. П. Огурцов//Политическая концептология: журн. метадисциплинар. исслед. -2009. -№ 2. -С. 29-40.
- Новейший большой толковый словарь русского языка/гл. ред. С. А. Кузнецов. -СПб.: Но-ринт; М.: РИПОЛ классик, 2008. -1536 с.
- Панарин, А. С. Политология: Западная и Восточная традиции: учеб. для вузов/А. С. Панарин. -М.: Кн. дом «Университет», 2000. -320 с.
- Ромат, Е. В. Реклама: учеб. для вузов/Е. В. Ро-мат. -СПб.: Питер, 2008. -496 с.
- Русский ассоциативный словарь: в 2 т. Т. 1. От стимула к реакции: ок. 7000 стимулов/ред. Ю. Н. Караулов. -М.: Астрель; АСТ, 2002. -784 с
- Тираспольский, Г. И. Словарь политической борьбы: Материалы 1988-1996 гг./Г. И. Тирасполь-ский. -Сыктывкар: Изд-во КРАГСиУ, 2006. -400 с.
- Тихомирова, Л. В. Юридическая энциклопедия/Л. В. Тихомирова, М. Ю. Тихомиров. -Изд. 6-е. -М.: Изд. Тихомирова М.Ю., 2008. -526 с.
- Толковый словарь русского языка конца ХХ века: Языковые изменения/под ред. Г. Н. Скля-ревской. -СПб.: Фолио-Пресс, 1998. -702 с.
- Уваров, С. О некоторых общих началах, могущих служить руководством при управлении Министерством народного просвещения/С. Ува-ров. -Электрон. текстовые дан. -Режим доступа: http://monarhist-spb.narod.ru/library/Count_Uvarov/Count_Uvarov-1.htm.
- Чудинов, А. П. Политическая лингвистика: учеб. пособие/А. П. Чудинов. -М.: Флинта; Наука, 2006. -254 с.
- Шейгал, Е. И. Семиотика политического дискурса: автореф. дис.... д-ра филол. наук: 10.02.01, 10.02.19/Шейгал Елена Иосифовна. -Волгоград, 2000. -32 с.
- Энциклопедия эпистемологии и философии науки/гл. ред. и сост. И. Т. Касавин. -М.: Канон+: РОММ «Реабилитация», 2009. -1248 с.