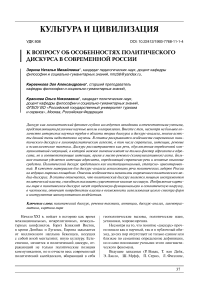К вопросу об особенностях политического дискурса в современной России
Автор: Зорина Наталья Михайловна, Киреенкова Зоя Александровна, Краснова Ольга Николаевна
Журнал: Сервис plus @servis-plus
Рубрика: Культура и цивилизация
Статья в выпуске: 1 т.11, 2017 года.
Бесплатный доступ
Дискурс как лингвистический феномен глубоко исследуется западными и отечественными учеными, представляющими различные научные школы и направления. Вместе с тем, несмотря на большое ко- личество интересных научных трудов в области теории дискурса и дискурс-анализа, многие аспек- ты данной темы недостаточно изучены. В статье раскрываются особенности современного поли- тического дискурса в лингвопрагматическом аспекте, в том числе стратегии, интенции, речевые и психологические тактики. Дискурс рассматривается как речь, обусловленная определенной ком- муникативной ситуацией, в которой важное значение имеют не только фактор адресанта и адре- сата, но и соответствующие интенции, время и место речевого (коммуникативного) акта. Боль- шое внимание уделяется интенции адресанта, определяющей стратегию речи и основные языковые средства. Политический дискурс представлен как институциональный, статусно- ориентирован- ный. В качестве материалов для дискурс-анализа использованы речи политических лидеров России на ведущих мировых площадках. Описаны особенности и механизмы современного политического ме- диа-дискурса. В статье отмечается, что политический дискурс является мощным инструментом политической власти, способным оказывать существенное влияние на социум. Изображение карти- ны мира в политическом дискурсе несет определенную функциональную и семантическую нагрузку, в частности, отвечает потребностям власти в возможности использования целого спектра форм и инструментов манипулятивного воздействия.
Политический дискурс, речевые тактики, интенции, дискурс-анализ, лингвопрагматика, картина мира
Короткий адрес: https://sciup.org/140210391
IDR: 140210391 | УДК: 808 | DOI: 10.22412/1993-7768-11-1-4
Текст научной статьи К вопросу об особенностях политического дискурса в современной России
Начало XXI в. войдет в историю как время межнациональных, межрелигиозных, межкультурных конфликтов. Горит Ближний Восток, в крови Донбасс и Луганск, Европа задыхается от миллионного наплыва беженцев, несущих с собой иной менталитет, иную культуру. Естественно, меняется и политический дискурс, отражающий не только политические позиции коммуникантов, но и отчасти весь современный политический калейдоскоп, вбирающий в себя геополитические вызовы, политические идеи, установки, мировоззрения.
Несмотря на то, что понятие «дискурс» прочно вошло как в научный, так и в публичный обиход, до сих пор отсутствует не только единое или близкое по семантике определение дефиниции, но и само понимание учеными этого лингвистического феномена.
Ведущие западные (Р. Водак, Т. ван Дейк, Э. Лакло, Ш. Муфф, П. Серио, Л. Филлипс,
Н. Фэркло, М.В. Йоргенсен и др.) и отечественные (В.Г. Борботько, В.И. Карасик, В.В. Красных, М.Л. Макаров, А . В. Олянич, Ю.Е. Прохоров, К.Ф. Седов, И.А. Стернин, Н.И. Фор-мановская и др.) ученые, работающие в рамках различных научных школ и исследующие различные аспекты теории дискурса и дискурс-ана-лиза, представляют дискурс как речевое произведение, содержащее интенциональные, коммуникативные установки адресанта, которые реализуются в тех или иных языковых средствах [1, 2, 16, 18 и др.].
Широко известным и цитируемым является определение дискурса как речи, погруженной в жизнь1. Действительно, все ученые едины в утверждении коммуникативной направленности дискурса и привязанности его к определенной коммуникативной ситуации. В узком смысле дискурс, на наш взгляд – речь, обусловленная конкретной коммуникативной ситуацией [4].
Основное направление в развитии теории дискурса и дискурс-анализа определили работы Дж. Остина, Дж.Р. Серля, Г.П. Грайса, Дж. Синклера, М. Култхарда в области лигвопрагматики, которые и являются в настоящее время основой изучения дискурса и дискурс-анализа.
В рамках настоящей статьи нас будет интересовать современный политический дискурс, раскрывающий картину мира, исходя из потребностей власти «в мифологизации и эстетизации» [16]. Политический дискурс, в отличие от личностно-ориентированного, статусно ориентирован. Политический дискурс, как и научный, военный, юридический, деловой, представляет собой институциональное, или статусно-ролевое, общение [12].
В последнее время появился целый ряд исследований в области именно политического дискурса [17, 22 и др.]. Одним из значительных трудов, представляющих комплексный анализ политического дискурса, является монография Е.И. Шейгал «Семиотика политического дискурса» [23], в которой рассматриваются характеристики и функции политического дискурса, базовые концепты, анализируются его интенциональный и жанровый аспекты.
Политический дискурс представлен Е.И. Шейгал как институциональное общение, которое, в отличие от личностно-ориентированного, использует определенную систему профессионально-ориентированных знаков, т.е. обладает собственным подъязыком (лексикой, фразеологией и паремиологией). С учетом значимости ситуативно-культурного контекста политический дискурс представляет собой феномен, суть которого может быть выражена формулой “дискурс = подъязык + текст + контекст” [23, с. 15].
Жанровый репертуар политического дискурса включает выступления политиков на митингах, демонстрациях, конференциях, съездах, саммитах; интервью, споры, дискуссии, т.е. пересекается с другими видами институционального делового дискурса. Вместе с тем рассматриваемый нами дискурс должен обладать большей степенью воздействия на адресата, потому что изначально направлен на руководство и манипулирование социумом.
В связи с этим основными отличительными характеристиками политического дискурса, на наш взгляд, должны быть следующие: аргументированность, взвешенность оценок, эмоциональная сдержанность, максимальный учет фактора адресата.
Достаточно образцовой в этом плане можно считать речь экс-спикера Государственной Думы, в настоящее время руководителя СВР С. Нарышкина2. Грамотная, аргументированная, спокойная, эмоционально сдержанная речь выделяет его из общего ряда политических деятелей, запоминающихся либо поведенческими, либо речевыми пассажами.
Вместе с тем общая тенденция в развитии политического дискурса позволяет отметить, что он становится более резким, аргументы – более жесткими, переходящими в угрозы. Оппоненты не слышат и не желают слышать друг друга. Основной интенцией становится не столько убеждение, сколько запугивание или самореклама.
Рассмотрим далее особенности политического дискурса на конкретных примерах.
Основными факторами, определяющими выбор языковых, стилистических и риторических средств политического дискурса, являются коммуникативная интенция адресанта, представление картины мира, действительности с индивидуально-оценочной позиции (и/ или позиции принадлежности к определенной политической ст руктуре/ социальной группе)
адресанта и с учетом фактора адресата. Причем, кроме описанной в дискурсе картины мира, существуют и другие/множество других версий. Столкновение этих версий одной и той же действительности и порождает интригу.
Выделим три уровня, на которых, на наш взгляд, следует рассматривать политический, как, в принципе, и деловой дискурс: лингвопрагматический, структурообразующий и лингвистический [4, 24].
На лингвопрагматическом уровне рассмотрим интенции, речевые тактики адресанта (монологический дискурс), коммуникантов (диалогический дискурс).
Стратегии адресанта (в нашем случае политика) определяются коммуникативными интенциями, которыми в политическом дискурсе могут быть следующие: убеждение в чем-либо, побуждение к действию, оценка происходящих событий или реакция на то или событие/действие.
В качестве примера приведем речь В.В. Путина на пленарном заседании юбилейной, 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 28 сентября 2015 г.3
В. Путин посвящает свою речь вопросам международной политики и важнейшей роли в ней ООН. Заявленная в речи тема не простая дань юбилейному событию. Начало дискурса задает тональность и определяет основную интенцию как оценку политической ситуации в мире и убеждение в сотрудничестве. Цель В. Путина – доказать несостоятельность иных версий картин мира и утвердить, обосновать, доказать собственную.
Общая тональность речи соответствует коммуникативной ситуации и, соответственно, деловому этикету. Этикетные формулы, используемые В. Путиным (Уважаемый господин Председатель! Уважаемый господин Генеральный секретарь! Уважаемые главы государств и правительств! Дамы и господа!), подчеркивают ее торжественность и официальность.
Вместе с тем адресант далек от дипломатических реверансов. Дискурс, несомненно, отличает эмоциональность, что в принципе не свойственно политическому дискурсу, но является отличительной особенностью речей В. Путина, однако главное – жесткость в оценках и суждениях.
Речь В. Путина на ГА ООН 28 сентября 2015 года – это речь учителя, обращенная не просто к нерадивым ученикам, а провинившимся ученикам, ученикам, совершим проступок. Проанализировав актуальные вопросы мировой политики, в т.ч. ситуацию на Ближнем Востоке и Украине, и охарактеризовав картину мира, содержание которой составляют «насилие, нищета, социальная катастрофа», игнорирование прав человека, включая и право на жизнь, разрушение государственных и социальных институтов вследствие «агрессивного внешнего вмешательства», В. Путин обращается к аудитории с риторическим вопросом: « Так и хочется спросить тех, кто создал такую ситуацию: “Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?”». Если принять во внимание, что речь хорошо проработана, то этот пассаж является не экспромтом, а речевым ходом, речевой тактикой, призванной не просто усилить описание картины мира, а назначить ответственных за совершенные преступления. И здесь уже чувствуется не обращение к ученикам, которые молчали, когда творилось беззаконие, а обвинение Запада и Америки в агрессивной политике: «Мы все знаем, что после окончания «холодной войны» – все это знают – в мире возник единственный центр доминирования. И тогда у тех, кто оказался на вершине этой пирамиды, возник соблазн думать, что если они такие сильные и исключительные, то лучше всех знают, что делать». В. Путин не оговаривается, а сознательно повторяет: «все знают», тем самым отсылая адресата к вполне реальному действующему лицу мировой политики. И далее: «… от политики, в которой лежит самоуверенность, убежденность в своей исключительности и безнаказанности, так и не отказались ».
Речь политика определяет и его политический вес, статус, амбиции. Речь В. Путина – это речь Президента мировой державы, крупного игрока на мировой арене. Он не отчитывается перед другими главами государств, даже не выступает как равный перед равными, а претендует на высшую лигу игроков либо на свою собственную игру, с которой следует считаться. Официальность, сдержанность и жесткость, пронизывающая весь дискурс, нарочитая напряженность не могли быть не поняты адресатом.
Что касается структурообразующего уровня, то дискурс отличает композиционная стройность, аргументированность. Дискурс разворачивается на основе нарративной стратегии. Пространственно-временная модель действительности, или хронотоп, раскрывается через субъективно-критический взгляд адресанта, который, представляя и оценивая существующее положение дел в мировой политике, прогнозирует и оценивает возможные перспективы: «… поставили постсоветские страны перед ложным выбором – быть им с Западом или с Востоком? Рано или поздно такая конфронтационная логика должна была обернуться серьезным геополитическим кризисом. Это и произошло на Украине, где использовали недовольство значительной части населения действующей властью и извне спровоцировали вооруженный переворот. В итоге вспыхнула гражданская война».
Аргументы к факту четко ориентированы на конкретного адресата: «Ряд стран пошли по пути закрытых эксклюзивных экономических объединений, причем переговоры об их создании идут кулуарно, втайне и от собственных граждан, от собственных деловых кругов, общественности, и от других стран. Другие государства, чьи интересы могут быть затронуты, также ни о чем не информируются. Вероятно, всех нас хотят поставить перед фактом, что правила игры переписаны и переписаны опять в угоду узкого круга избранных, причем без участия ВТО. Это чревато полной разбалансировкой торговой системы, раздроблением глобального экономического пространства».
Используемые аргументы к авторитету (обращение к религиозным, духовным лидерам традиционного ислама) показывают пути, которые следует использовать в пропагандистской работе по возвращению тех, кто в результате вербовки попал в лагерь боевиков, к мирной жизни.
В заключительной фазе используются этикетные формулы и, по сути, декларируется в качестве реализованной основная интенция – оценка существующего положения дел и убеждение о сотрудничестве: «Россия верит в громадный потенциал ООН, который должен помочь избежать новой глобальной конфронтации и перейти к стратегии кооперации. Вместе с другими странами будем последовательно работать ради укрепления центральной координирующей роли ООН».
Целостности речи способствуют элементы интеграции. Когезия реализуется через лексикограмматические повторы, связывающие высказывания с предшествующим контекстом, через лексические единицы, обозначающие временные отношения и связывающие тематические блоки. Кроме того, в дискурсе использована ретроспекция, выполняющая, как и когезия, композиционную функцию – достижение целостности речевого произведения.
Лингвистический ресурс, в частности развернутость синтаксических конструкций, используется в политическом дискурсе в соответствии с теми интенциями, которые реализует или готов реализовать говорящий.
Анализируя дискурс, следует обратить внимание на следующий факт: в качестве адресата здесь можно рассматривать не только внешнюю, но и внутреннюю общественность. В. Путин как опытный политик хорошо понимает ценностные ориентации народа и передает их в речи, тем самым повышая степень своего влияния и воздействия на социум.
В. Путин умеет вызвать улыбку слушателей, используя механизм нейро-лингвистического рефрейминга. Отвечая на вопросы журналистов (саммит АТЕС в Перу, ноябрь 2016 г.) об его отношении к сопровождению швейцарскими истребителями российского самолета, он, улыбаясь, назвал эти самолеты «почетным экскортом», тем самым еще раз подчеркнул статусный характер отечественных ВС и свою роль как ведущего мирового политика.
Речь министра иностранных дел С. Лаврова на 71-й годовщине ГА ООН Нью-Йорк, 23 сентября 2016 г.4 отличается той же тональностью, но, несмотря на яркость в аргументационном плане, эмоционально сдержанна, что характерно для политического, в частности дипломатического, дискурса.
Общение политиков с массами, влияющее на формирование общественного мнения, масштабно охватывающее миллионные аудитории, обеспечивается и форматом политического медиа-дискурса. Телевизионные политические ток-шоу и программы зрелищны, интерактивны, звездны и манипулятивны. Особая драматургия всего дискурса в этих программах не просто трогает зрителей эмоционально, а делает их участниками и создателями картины мира, предлагаемой с экрана. Зрители получают порции норадреналина, серотонина и … эмоционально подтвержденные убеждения.
Как правило, выступают политики, общественные деятели, эксперты с разными и даже противоположными взглядами/позициями, зарубежные гости, и именно это привлекает и удерживает внимание. В ситуации спора проявляется эффект групповой поляризации мнений и у участников, и у зрителей. Подбирая аргументы для защиты своей позиции, оппоненты еще более убеждаются в собственной правоте. Значимость обсуждаемых вопросов становится высока, утрачиваются ценность и правила диалогической речи. Представители той или иной стороны говорят не для того, чтобы найти платформу взаимопонимания, а для того чтобы провести свою линию, заявить о себе. Некорректный спор, сопровождаемый упреками, оскорблениями, насмешками, возмущением, демонстрацией обиды, прерыванием контакта превращается в ссору и может рассматриваться как форма вербальной агрессии. Скрытая и тем более явная агрессия в политической речи является коммуникативной неудачей, потому что нарушает личностное пространство оппонента. Высокий тон политических дискуссий все чаще перерастает в скандал.
Анализируя политическую информацию, важно уметь отделять два компонента: объективную информацию, факты от их субъ- ективного смысла, от отношения к ним. Так «российская помощь» Сирии превращается в информацию о «российской агрессии». Процесс перцептогенеза, т.е. выделения фигуры из фона, определяется готовностью воспринять информацию уже существующей и удобной нам картиной мира. В этих программах формат преподнесения информации имеет ценностносмысловую ориентацию. Нарратив представляет не столько модель действительности, сколько субъективно-авторский комментарий. Можно сказать, что технологии политического медиадискурса не только отражают, но и создают информацию.
Политический дискурс, несомненно, является мощным инструментом политической власти, воздействующим в большей или в меньшей степени на общественное сознание и отчасти манипулирующим этим сознанием.
Список литературы К вопросу об особенностях политического дискурса в современной России
- Борботько В.Г. Принципы формирования дискурса: От психолингвистики к лингвосинергетике. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2011.
- Ван Дейк. Дискурс и власть. М.: Либроком, 2013.
- Золотова Г.А., Онипенко Н.К., Сидорова М.Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. М.: Ин-т русск. яз. им. В.В. Виноградова, 2004.
- Зорина Н.М. К вопросу о презентации теории дискурса в рамках речеведческих дисциплин//Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. 2009. № 3. С. 93-98.
- Зорина Н.М. Использование дискурсивных матриц в формировании коммуникативной компетенции студентов//Среднее профессиональное образование. 2010. № 1. С. 30-33.
- Еникополов С.Н., Кузнецова Ю.М., Чудова Н.В. Агрессия в обыденной жизни. М.: Политическая энциклопедия, 2014.
- Ипполитова Н.А. Культура русской речи/Н.А. Ипполитова, О.Ю. Князева, М.Р. Савова. М.: Проспект, 2013.
- Иссерс О.С. Коммуникативные стратегии и тактики русской речи. Изд. 5-е. М.: ЛКИ, 2008.
- Иссерс О.С. Речевое воздействие. М.: Флинта -Наука, 2009.
- Иссерс О.С. Современная речевая коммуникация: дискурсивные практики. Омск, 2011.
- Карасик В.И. Аспекты языковой личности//Проблемы речевой коммуникации/под ред. М.А. Кормилицыной. Саратов, 2003.
- Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. Волгоград: Перемена, 2002.
- Красных В.В. «Свой» среди «чужих»: миф или реальность М.: Гнозис, 2003.
- Культура русской речи/Отв. ред. Л.К. Граудина, Е.Н. Ширяев. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2015.
- Макаров М.Л. Основы теории дискурса. М.: Гнозис, 2003.
- Олянич А.В. Презентационная теория дискурса. М.: Гнозис, 2007.
- Сагайдачная Е.Н. Экспрессивные средства языка в речи политиков: Автореф.. канд. филолог. наук. Р-н/Д, 2009.
- Седов К.Ф. Дискурс и личность. М., 2004.
- Сидоров Е.В. Когнитивная прагматика дискурса. М.: Изд-во РГСУ, 2013.
- Стернин И.А. Практическая риторика. М.: Академия, 2010.
- Формановская Н.И. Речевое взаимодействие: коммуникация и прагматика. М.: Икар, 2007.
- Шапочкин Д.В. Политический дискурс: когнитивный аспект: монография. Тюмень: Изд-во Тюменского гос. ун-та, 2012.
- Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса. Волгоград: Перемена, 2000.
- Zorina N.M., Kortunov V.V. The issues of methodology of a discourse-analysis in teaching of professional speech to the students of non-philological specialties//Middle-East Journal of Scientific Research 19 (4): pp. 554-559, 2014.
- Kortunov V., Fedulin A. A critical analysis of the impact of elecommunications on the worldview of Russian society//Middle East Journal of Scientific Research. 2013. Т. 15. № 10. рр. 1389-1395.
- Федулин А.А., Багдасарян В.Э. Сервис в историческом и философском осмыслении. М.: ФГБОУ ВПО «Российский гос. ун-т туризма и сервиса», 2010.
- Nature-based tourism in Russia/Caldito L.A., Dimanche F., Mazina A., Fedulin A., Vetitnev A., Apukhtin A., Kruzhkov D., Kurbanov E., Pecheritsa E., Sakharchuk E., Sharafanova E., Romanova G., Alexanyanc G., Tatarskikh Iu., Belosluttseva L., Smit N., Kryukova O., Vapnyarskaya O., Ilkevich S., Kharitonova T. etc. TEMPUS Project «NETOUR: Network for Excellence in Tourism through Organization and Universities in Russia»/Project Co-funded by the European Union. Spain, 2015.
- Федулин А.А., Сахарчук Е.С. Образовательный кластер по туризму и сервису Московской области//Вестник Ассоциации вузов туризма и сервиса. Т. 8. 2014. № 2. С. 49-55.