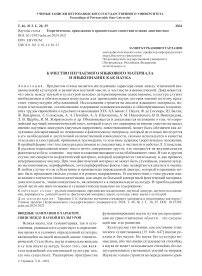Качество изучаемого языкового материала и языкознание как наука
Автор: Тарланов З.К.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Теоретическая, прикладная и сравнительно-сопоставительная лингвистика
Статья в выпуске: 3 т.46, 2024 года.
Бесплатный доступ
Предметом статьи является исследование характера связи между этнической (национальной) культурой и развитием научной мысли, в частности языковедческой. Доказывается, что связь между наукой и культурой исходно детерминирована односторонне, культура служит необходимым и обязательным импульсом для зарождения науки, которая именно поэтому предстает этнокультурно обусловленной. Исследование строится на анализе языкового материала, методов и методологии, составляющих содержание основополагающих и общепризнанных классических трудов европейского и русского языкознания XIX-XX веков: Г. Пауля, Ф. де Соссюра, Ш. Балли, Ж. Вандриеса, Л. Ельмслева, А. А. Потебни, А. А. Шахматова, А. М. Пешковского, В. В. Виноградова, Л. В. Щербы, В. М. Жирмунского и др. Обосновывается и доказывается положение о том, что европейский научный лингвистический текст, который в силу его априорности вполне уместно называть именно научным дискурсом (научным нарративом, повествованием), может быть обозначен как дедуктивно-декларативный по отношению к фактическому материалу, который не столько исследуется в его необходимой и достаточной количественной совокупности, сколько используется в качестве отдельных иллюстраций, призванных подтвердить то или иное заданное теоретическое положение. В крайней форме этот тип дискурса реализован в глоссематике, в частности в работах Л. Ельмслева. В русском языкознании имеет место нечто совершенно другое, что опирается на внушительную фактическую базу, а именно - научное изложение вводящего или обобщающего типа. В том и другом случае оно опирается на фактический материал, который подвергается тщательному и, как правило, исчерпывающему анализу. При этом фактический материал не может быть случайным, социокультурно малозначимым, периферийным, хотя периферийные факты тоже подвергаются анализу и оценке. В любом случае это не субъективно и произвольно порождаемый дискурс, который в принципе может быть продолжен сколько угодно и в разных направлениях. В соответствии с этим русское языкознание отличается такими качествами, как опора на большой конкретный фактический материал, доказательность, энциклопедичность, включенность в национальную культуру. В преобладающей своей части оно многопланово и гуманистически нацелено по содержанию.
Русское языкознание, европейское языкознание, научный дискурс, научное исследование, априорность, доказательность, фактический материал, наука, культура, связь науки с культурой
Короткий адрес: https://sciup.org/147242950
IDR: 147242950 | УДК: 811.161.1, | DOI: 10.15393/uchz.art.2024.1021
Текст научной статьи Качество изучаемого языкового материала и языкознание как наука
КАЧЕСТВО ИЗУЧАЕМОГО ЯЗЫКОВОГО МАТЕРИАЛА
И ЯЗЫКОЗНАНИЕ КАК НАУКА
А н но т ац ия . Предметом статьи является исследование характера связи между этнической (национальной) культурой и развитием научной мысли, в частности языковедческой. Доказывается, что связь между наукой и культурой исходно детерминирована односторонне, культура служит необходимым и обязательным импульсом для зарождения науки, которая именно поэтому предстает этнокультурно обусловленной. Исследование строится на анализе языкового материала, методов и методологии, составляющих содержание основополагающих и общепризнанных классических трудов европейского и русского языкознания XIX–XX веков: Г. Пауля, Ф. де Соссюра, Ш. Балли, Ж. Вандриеса, Л. Ельмслева, А. А. Потебни, А. А. Шахматова, А. М. Пешковского, В. В. Виноградова, Л. В. Щербы, В. М. Жирмунского и др. Обосновывается и доказывается положение о том, что европейский научный лингвистический текст, который в силу его априорности вполне уместно называть именно научным дискурсом (научным нарративом, повествованием), может быть обозначен как дедуктивно-декларативный по отношению к фактическому материалу, который не столько исследуется в его необходимой и достаточной количественной совокупности, сколько используется в качестве отдельных иллюстраций, призванных подтвердить то или иное заданное теоретическое положение. В крайней форме этот тип дискурса реализован в глоссематике, в частности в работах Л. Ельмслева. В русском языкознании имеет место нечто совершенно другое, что опирается на внушительную фактическую базу, а именно – научное изложение вводящего или обобщающего типа. В том и другом случае оно опирается на фактический материал, который подвергается тщательному и, как правило, исчерпывающему анализу. При этом фактический материал не может быть случайным, социокультурно малозначимым, периферийным, хотя периферийные факты тоже подвергаются анализу и оценке. В любом случае это не субъективно и произвольно порождаемый дискурс, который в принципе может быть продолжен сколько угодно и в разных направлениях. В соответствии с этим русское языкознание отличается такими качествами, как опора на большой конкретный фактический материал, доказательность, энциклопедичность, включенность в национальную культуру. В преобладающей своей части оно многопланово и гуманистически нацелено по содержанию.
Кл юч е в ы е с л о в а : русское языкознание, европейское языкознание, научный дискурс, научное исследование, априорность, доказательность, фактический материал, наука, культура, связь науки с культурой
Д ля ц и т ир о в ан ия : Тарланов З. К. Качество изучаемого языкового материала и языкознание как наука // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2024. Т. 46, № 3. С. 28–35. DOI: 10.15393/ uchz.art.2024.1021
ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ О ХАРАКТЕРЕ СВЯЗИ МЕЖДУ НАУКОЙ И КУЛЬТУРОЙ
Всякая наука, как гуманитарная, так и естественная, развивается и существует в определенное время и в условиях определенной культуры, являющейся по своей исходной основе этноисто-рической. Стало быть, наука изначально вписана в ту или иную культуру. Более того, она является важнейшей составляющей культуры там, где она существует. Расширение пространства
функционирования науки путем распространения на трансэтнические области – это следующий шаг в ее развитии.
Культура как тип жизни, как состояние этнического существования [15: 646–647] вполне реальна и без науки. Но наука без культуры немыслима, ибо тип жизни складывается стихийно, а наука не может складываться стихийно, без целеустремленных умственных усилий ее творцов. Наука не только строится на определенном уров- не культуры, но, более того, необходимо предполагает минимальный уровень самой интеллектуальной культуры общества, исходно являющейся полностью или частично этнической. Отсюда следует, что науке в принципе не чужда этно-историческая форма, предопределяемая соответствующими культурными традициями и ментальными представлениями общества, в котором она зарождается, развивается и утверждается, разрабатывая и свой самобытный понятийно-терминологический аппарат, не ограничивающийся, разумеется, древнегреческим и латинским словарем в качестве общепринятого терминологического фонда, как это имеет место, например, в европейской практике.
Творчески создаваемый в рамках той или иной этноисторической культуры понятийно-терминологический аппарат призван удовлетворять потребности ориентированного на эту культуру процесса становления необходимого научного стиля. Вспомним здесь общеизвестные принципы терминотворчества М. В. Ломоносова на базе русского языка и его плодотворные усилия по созданию русского научного стиля [5: 103, 109], [10: 54, 64].
Столь же важным для науки в обозначенном плане является также и тип или типология основного фактического материала , привлекаемого для целенаправленных научных наблюдений. Было бы любопытно попытаться как-то систематизировать и обобщить в этом направлении имеющийся международный научный опыт хотя бы выборочно, чтобы можно было сопоставительно и предметно говорить о характере действительного вклада тех или иных национальных школ в мировую науку в данном случае гуманитарных отраслей знания.
Задача предлагаемой статьи в свете сказанного сводится к тому, чтобы проследить в указанном плане безусловно проявляющиеся предпочтения русской языковедческой науки с начала ее становления в новой истории в сопоставлении с соответствующими фактами языкознания Запада. Заниматься подобными проблемами почему-то не принято, хотя именно здесь достаточно отчетливо обнаруживаются принципиальные черты и доминанты тех или иных научных подходов, претендующих на признание и универсализм.
ОБЩИЕ И ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ РУССКОГО И ЕВРОПЕЙСКОГО КЛАССИЧЕСКОГО
ЯЗЫКОЗНАНИЯ
Многовековая донаучная практика разных этнических культур в изучении, объяснении и комментировании языковых фактов, равно как и обширный опыт строго научных подходов к ним с первой четверти XIX столетия, со времени открытия сравнительно-исторического метода, переведшего языкознание в разряд авторитетных наук, убеждают в том, что лингвистические представления и квалификации, включая и принципы отбора соответствующих фактов, безусловно мотивированы этнокультурно.
Древние греки, например, стоявшие у истоков европейского языкознания и поглощенные теориями фюсей – по природе и тесей – по закону, по установлению [17: 13], строившимися исключительно на лексическом материале, были увлечены поисками этимонов языковых смыслов, но оставались безразличны не только к другим («варварским») языкам, но даже к структуре собственного языка. Для них языкознание являлось частью философии как рассудочной отрасли знания (умения логически мыслить), порождавшейся в их спорах: языковые факты призваны были подтверждать или опровергать их умозаключения. Древнегреческое языкознание, таким образом, складывалось как бы априорно. Оно не столько систематизировало и обобщало показания древнегреческого языка, сколько иллюстрировало ими те или иные заданные положения философского толка.
Как увидим дальше, априорность, намеренное теоретизирование, становится важнейшей чертой европейского языкознания в целом, включая и его классические научные направления XIX–XX столетий.
Если согласиться с достаточно условным делением языкознания на теоретическое и описательное, то европейское языкознание предстает как явственно и односторонне тяготеющее к теоретизированию за счет ожидаемого в научных поисках интереса к фактическому материалу в его всегда противоречивой данности и сложности. Поэтому, естественно, европейское языкознание представляется как бы более компактным и логичным, с чем нельзя не согласиться, но это не та логичность, которой охватывается сложная мозаика языковой картины в синхронии и диахронии, а та логичность, которая является декларируемой, самодовлеющей, непротиворечиво выстроенной, а потому легко воспринимаемой. В качестве иллюстрации принципиальной верности сформулированного тезиса можно обратиться, например, к знаменитой монографии «Принципы истории языка» классика немецкого языкознания Г. Пауля [11], которая считается манифестом младограмматического направления, сложившегося в 70-х годах XIX столетия. В ней впервые и убедительно развиваются теоретические положения о том, что жизнь языка – это непрерывная цепь изменений, что поэтому историзм – это важнейший принцип науки о языке; что язык существует как единство окказионального и узуального, что движение от окказионального к узуальному и есть путь языкового изменения; зарождение окказионального факта в основе своей является случайным результатом движения индивидуальных представлений; что окказиональное (индивидуальное) первично по отношению к узуальному и т. д. Анализу собственно языковых (узуальных) или речевых (окказиональных) явлений отводится более чем скромное место. Иллюстрации к доказываемым тезисам или общим наблюдениям, где они встречаются, ограничиваются отдельными словами из одного или нескольких сравниваемых языков. О фронтальном исследовании языковых фактов речи нет.
Аналогично обстоит дело и с не менее знаменитой монографией Ф. Соссюра «Курс общей лингвистики», подготовленной и изданной его учениками в 1916 году [14], после смерти ученого (1913). В этой замечательной по логике и содержанию книге блестяще излагаются основные и в высшей степени конструктивные положения о том, чтό есть язык как предмет изучения в языкознании. В «Курсе общей лингвистики» в законченном виде была предложена новая концепция и новая методология осмысления языка как системы знаков. Однако в соответствии с названием и целью предлагаемой статьи отметим, что и здесь собственно языковой материал представлен чрезвычайно скупо притом, что есть много произвольных неязыковых аналогий, привлекаемых в качестве косвенных доказательств.
В принципе так же обстоит дело и в фундаментальных по проблематике исследованиях В. Гумбольдта по общему языкознанию [7], а также в работах Ш. Балли [2] и Ж. Вандриеса [4], преимущественно посвященных французскому языку. Подобных примеров привести можно сколько угодно. Но из сказанного не следует, однако, что между русским и европейским языкознанием нет плодотворных линий пересечения. Они безусловно есть, но в порядке исключений. Общеизвестно, например, что научные идеи Ш. Балли в области фразеологии были поддержаны и далее плодотворно развиты на материале русского языка такими выдающимися русскими учеными, как В. В. Виноградов и Б. А. Ларин.
И в целом научное творчество Балли по его методологическим ориентациям и проблематике очень близко к традициям русского языкознания (см., например, его работы по общей лингвистике и стилистике французского языка [2], по сопоставительному анализу французского и немецкого языков [3]). Подобного рода сопоставления, однако, не могут рассматриваться как попытка противопоставить русское языкознание европейскому. Из сказанного следует лишь то, что европейский научный лингвистический текст, который в силу его априорности вполне уместно называть именно научным дискурсом ( научным нарративом, повествованием ), может быть обозначен как дедуктивно-декларативный по отношению к фактическому материалу, который не столько исследуется в его необходимой и достаточной количественной совокупности, сколько используется в качестве отдельных иллюстраций, призванных подтвердить то или иное заданное теоретическое положение. В крайней форме этот тип дискурса реализован в глоссематике, в частности в работах Л. Ельмслева [8].
В корне другим отношением к материалу научного исследования характеризуется русская лингвистическая традиция с самого начала ее становления, в которой научный дискурс как таковой, как рассудочное повествование , предшествующее анализу фактического материала или отрешенное от него, не представлен в принципе. В русском языкознании имеет место нечто совершенно другое, что опирается на внушительную фактическую базу, а именно – научное изложение вводящего или обобщающего типа . В том и другом случае оно опирается на фактический материал, который подвергается тщательному и, как правило, исчерпывающему анализу. При этом фактический материал не может быть случайным, социокультурно малозначимым, периферийным, хотя периферийные факты тоже подвергаются анализу и оценке. В любом случае это не субъективно и произвольно порождаемый дискурс , который в принципе может быть продолжен сколько угодно и в разных направлениях.
В русском языкознании в силу особых исторических условий возникновения и развития древнерусской письменной культуры в центре исследовательских интересов оказывались в первую очередь проблемы литературного языка не только как образцового, но и как языка культуры, что не свойственно европейскому дискурсивному языкознанию. Поэтому исследованиям по русскому языку не чужда и своеобразная энциклопедичность. Поэтому же неслучайно
«Российская грамматика» М. В. Ломоносова, являющаяся первой научной грамматикой русского языка, стала в то же время и первой академической , и первой нормативной его грамматикой , в которой можно найти ответы на многие вопросы по нормам образцовой речи и целесообразному использованию стилей русского литературного языка XVIII столетия. Вводящие (или предваряющие) замечания научного изложения Ломоносова служат для установления мотивированной связи между языком и материалистически трактуемой им природой, за которыми следует тонкий анализ обширного собственно языкового материала, завершающийся обобщающим, подытоживающим научным изложением. Приведем пример рационалистически нацеленных грамматических рассуждений Ломоносова – о категории грамматического рода:
«Животных натура на два пола разделила, на Мужеский и на Женский. Оттуда и имена их во многих языках суть двух родов: господин, госпожа; муж, жена; Орел, Орлица . Сие от животных простерлось и к вещам бездушным, из единаго токмо употребления, и часто безрассудно, как мужескаго пола: сук, лист, волос ; женска-го: гора, вода, стена » [9: 32].
Хотя категория рода характеризует многие языки, тем не менее Ломоносов, исходя из принципа рационализма, считает не без основания, что «слову человеческому нет в том необходимой нужды» [9: 32].
Невозможно говорить, к примеру, о каком-то научном дискурсе применительно к содержательному изложению в четырехтомном труде «Из записок по русской грамматике» А. А. Потебни, в котором на колоссальном материале различных древних и новых языков рассматриваются фундаментальные проблемы и частные вопросы истории языка и исторического языкознания. Читать его нужно очень внимательно, не упуская из виду и материал исследования. В нем нет заранее выстроенной стратегии повествования, называемого дискурсом и ориентированного на броскую занимательность. Это глубокое и разноплановое исследование, в котором устанавливаются и формулируются общие тенденции в развитии языков, а сами тенденции охватывают множество относительно законченных, логически и исторически увязанных между собой обобщенных эвристических сюжетов, поражающих тонкой наблюдательностью ученого. Если возникнет потребность хотя бы в каком-либо редком примере истории языка, который необходим, но трудно найти, то А. А. Потебня непременно выручит. Это тоже своеобразный энциклопедизм, характерный для всей русской лингвистической классики, о чем автору уже приходилось писать [16: 70–72].
Применительно к современному русскому языку как предмету изучения в русском языкознании аналогично должны быть оценены, например, «Синтаксис русского языка» А. А. Шахматова [19] и «Русский синтаксис в научном освещении» А. М. Пешковского [12], представляющие собой не только гениально и в высшей степени оригинально, новаторски выполненные исследования, но и памятники национальной культуры, в которых актуализируются, исследуются, комментируются, в том числе и эстетически, а также пропагандируются в качестве выразительных средств огромные пласты русского литературного языка и языка русской словесно-художественной классики. В них на образцовом материале дан исчерпывающий научный анализ синтаксиса русского национального литературного языка, неподвластный времени. Аналогичными действительно универсальными памятниками синтаксического строя не располагает, насколько нам известно, ни один европейский язык, поскольку европейское языкознание всегда было более априорно-декларативным, чем систематизирующе-аналитическим. См. в этом плане, например, «Грамматику Пор-Рояля» [1].
В качестве еще одного примера научного исследования, представляющего собой и памятник национальной культуры, невозможно не обратиться к гениальной монографии «Русский язык» В. В. Виноградова [6]. В ней не только исследован и обобщен огромный материал русского языка национального периода, извлеченный из множества памятников русской словесной и словесно-художественной культуры, не только представлен исчерпывающий анализ его морфологических категорий и форм, но и обобщены все существенные суждения, высказанные в европейском языкознании по соотносительным или близким проблемам в других языках. По истечении почти восьмидесяти лет со времени издания книги (1947) можно уверенно утверждать, что это и великолепно и гениально выполненное исследование по морфологическому строю русского языка, не имеющее аналогов, и энциклопедического типа памятник русской национальной культуры, который в полной мере сохраняет свою актуальность, оставаясь в то же время непревзойденным образцом научного исследования.
Или еще пример. В знаменитой монографии Н. С. Трубецкого «Основы фонологии», написанной на немецком языке (1939) [18], в которой изложена общеизвестная и общепризнанная его фонологическая теория и которая послужила теоретической опорой для всех структуральных школ XX столетия, обобщены показания фонологических систем 200 языков мира. В ней нет дедуктивно порождаемого дискурса. Ее формулировки строги, точны и выводятся из обильного языкового материала, который интерпретируется последовательно системно. Это один из ярких образцов русского языкознания, в котором теоретические положения не априорны, а формулируются в результате скрупулезного исследования очень большого и добротного фактического материала.
Одна из важнейших особенностей русского языкознания состоит и в том, что предметом фундаментального изучения в нем служил не только русский язык, но и все распространенные языки мира. Таковы, например, исследования по фонетике французского языка Л. В. Щербы, по истории, диалектологии, синтаксису немецкого языка В. М. Жирмунского и В. Г. Адмони, по арабскому языку И. Ю. Крачковского, по японскому языку Е. Д. Поливанова, по японскому и корейскому языкам А. А. Холодовича, по китайскому языку С. Е. Яхонтова, по испанскому языку Г. В. Степанова и т. д. Более того, реальными исследованиями в области теории и истории многих литературных европейских языков занимались почти исключительно русские советские ученые. При этом необходимо подчеркнуть, что в качестве главной мастерской, в которой разрабатывались важнейшие теоретические положения русского языкознания, используемые при изучении и других языков, выступала наука о русском языке, русистика.
Вместе с тем трудно назвать какую-либо основательную работу, которая была бы выполнена, например, по русскому языку лингвистами Европы, если не принимать во внимание этимологию, создаваемую по исследовательским результатам многих ученых. Это парадоксально, но факт. Представители европейской науки всегда были убеждены в превосходстве того, чем занимались они, считая свои занятия вершиной научного творчества, но это было проявлением обыкновенного европоцентризма в языкознании, как и во всем остальном тоже.
Более того. Если продолжить сопоставление, то станет очевидно, что русское языкознание сыграло колоссальную роль в актуализации полузабытых в Европе идей европейской же науки и подведении под многие из них необходимой фактической базы, которая, как отмечалось выше, в них изначально отсутствовала. Тем са- мым русское языкознание развивалось как более универсальная, более открытая разным научным идеям, более фундаментальная и безусловно более многовекторная наука, в соответствии со сложной природой языка и его роли в обществе. Это касалось и содержания образования в университетах России и Европы. Например, к рубежу XX–XXI столетий лучшие традиции немецких университетов полнее и дольше сохранялись в России, как признавали сами немцы, чем в самой Германии, не говоря о немецкой классической научной лингвистической литературе, почти полностью перешедшей в пассивную историю на ее родине.
В русском языкознании в отличие от европейского всегда была значительна филологическая составляющая, которая непременно актуализировалась при исследовании языковых явлений в их функционировании и истории. Поэтому русские лингвисты были и блестящими филологами, аналитиками художественных текстов, начиная от М. В. Ломоносова и заканчивая Л. В. Щербой, В. В. Виноградовым, А. М. Пеш-ковским, Б. А. Лариным и др. И по этой причине тоже языкознание в России отличалось большей фундаментальностью, не противоречащей исследовательской тщательности, в том числе в рассмотрении тонкостей и деталей изучаемого языкового материала.
Русское языкознание с 70-х годов XIX столетия по 80-е годы XX-го предстает как одна из самых внушительных частей мировой лингвистической науки, развивавшаяся не только в рамках трех известных школ – Казанской, Петербургско-Ленинградской, Московской, но и в трудах крупнейших ученых, которые не входили в какие-либо школы (например, В. В. Виноградов, Г. О. Винокур, А. М. Селищев и др.).
Насколько Европа была знакома с нашей отечественной наукой, значения не имеет, поскольку она была всегда плохо знакома с нею.
С 50-х годов XX столетия, когда русское языкознание стало активно и масштабно заниматься исследованиями в области теории и истории литературных языков, языка художественной литературы и фольклора, исследованиями по диалектам русского языка, составлением диалектных словарей, толковых словарей литературного языка и т. д., европейское языкознание оказалось в состоянии кризиса, который в качестве одного из следствий способствовал зарождению структурализма с его априорно-декларативными установками, в соответствии с которыми язык как предмет изучения в языкознании был почти полностью подменен процедурными вопросами.
Значительное распространение с конца 60-х годов XX столетия структурализм получил и в отечественном языкознании, и это стало первым тревожным сигналом об отходе от отечественных научных традиций. Как показало время, безусловно негативно сказался на отечественной русистике и тот факт, что в массовом порядке в вузах стали открываться кафедры и факультеты русского языка как иностранного, которые лучше финансировались и которым больше выделялось плановых бюджетных мест. В то же время студенты, обучавшиеся по этой специальности, получали образование по урезанным учебным планам по русскому языку и его истории, но с бόльшим вниманием к иностранным языкам, преимущественно английскому. Традиционный в русской университетской практике и обязательный для подготовки полноценных филологов-русистов цикл исторических дисциплин (старославянский язык, историческая грамматика русского языка, история русского литературного языка) был просто отменен. Приведу слова профессора Афанасия Матвеевича Селищева о значении изучения, например, старославянского языка для подготовки филологов-русистов и специалистов по другим славянским языкам:
«Задача курса старославянского языка заключается в том, чтобы представить необходимые лингвистические сведения, которыми должен располагать каждый приступающий к изучению истории русского и других славянских языков» [13: 4].
Безусловно отрицательно сказались на исследовательской практике и на научно-методологических ориентациях у нас в стране и увлечения многих ложно определяемым и трактуемым русским разговорным языком в качестве предмета изучения, разного рода вульгарными социальными жаргонами и обсценной лексикой. Все это привело к тому, что лингвистические работы практически утратили предмет науки как авторитетной и влиятельной отрасли знания, вместе с ним и общественную значимость, а также свою традиционно культуросозидающую и познавательную роль, превратившись во вспомогательную опору для конъюнктурной социологии и культурологии.
Положение усугублялось еще и совершенно ошибочно принятой у нас в угоду Западу так называемой болонской системой образования, которая по сути своей не рассчитана на интеллектуальное и профессиональное развитие студентов. Это один из образцов профанации образования.
Наука, как и образование, без специализации немыслима. Специализация определяется предметом изучения в науке, в том числе и ракурсами изучения того же предмета в разных науках. Так складывалось русское классическое языкознание, в котором русский язык исследовали и описывали в синхронии и диахронии, в плане его изменчивой разноуровневой структуры, стилистической и территориальной дифференциации, установления образцовых письменных и устных норм, в плане его выразительных и художественно-эстетических возможностей, взаимодействия с другими языками и т. д. Все выполненные по указанным и другим аспектам исследования – это фундаментальные работы, в которых систематизируются и обобщаются богатства русского языка в его истории. Однако все это уже стало достоянием истории.
НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Современное отечественное языкознание, как и европейское языкознание, как в целом интеллектуальная культура, переживает очевидный кризис. Кризис вызван не тем, что наука исчерпала предмет изучения, а тем, что она отошла от своего предмета изучения в угоду ложно понятым целям, якобы продиктованным актуальными общественными потребностями. Именно кризис (не научные достижения!) на рубеже XX–XXI столетий почти уравнял некоторую часть русского и европейское языкознание: и в том и в другом случае утрачены предмет и методология в качестве важнейших составляющих науки. Чтобы преодолеть кризис и снова стать авторитетной, познавательной и культуросозидающей отраслью знания, русскому языкознанию необходимо вернуться к принципиальным традициям отечественной науки с ее неизменной ориентированностью на подлинно общественные потребности и на тысячелетнюю историю национальной культуры. Тем более, что блестящая русская лингвистическая классика (труды Ломоносова, Востокова, Буслаева, Потебни, Фортунатова, Соболевского, Шахматова, Щербы, Виноградова, Ларина и многих других), в отличие от европейской, никуда не ушла, а остается активным фондом современной русской науки.
Русское языкознание должно оставаться, как всегда, важнейшей формой национальной культуры, универсальным средством воспитания молодежи в семье и школе, а также главным средством воспитания общества в целом, в том числе и в рамках защиты национально-культурных ценностей. Такая демаркация безусловно оздоравливающе скажется на русском языкознании.
Список литературы Качество изучаемого языкового материала и языкознание как наука
- Арно А., Лансло К. Всеобщая рациональная грамматика: (Грамматика Пор-Рояля) / Пер. с фр. Ю. С. Маслова и др. Л.: Изд-во ЛГУ, 1991. 126 с.
- Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка / Пер. с 3-го фр. изд. Е. В. и Т. В. Вентцель; Ред., вступ. статья [с. 3-19] и примеч. Р. А. Будагова. М.: Изд-во иностр. лит., 1955. 416 с.
- Балли Ш. Французская стилистика. / Пер. с фр. К. А. Долинина; Под ред. Е. Г. Эткинда; Вступ. ст. Р. А. Будагова. М.: Изд-во иностр. лит., 1961. 394 с.
- Вандриес Ж. Язык: Лингвистическое введение в историю: Пер. с франц. / Примеч. П. С. Кузнецова; Под ред. и с предисл. Р. О. Шор. М.: Соцэкгиз, 1937. 410 с.
- Виноградов В. В. Очерки по истории русского литературного языка ХУП-Х1Х вв.: Учебник. 3-е изд. М.: Высш. шк., 1982. 528 с.
- Виноградов В. В. Русский язык: (Грамматическое учение о слове). М.; Л.: Гос. учеб.-пед. изд-во, 1947. 783 с.
- Гумбольдт В. фон. Характер языка и характер народа // Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры / Сост., общ. ред. и вступ. ст. А. В. Гулыги и Г. В. Рамишвили. М.: Прогресс, 1985. С. 370-381.
- Ельмслев Л. Пролегомены к теории языка: Пер. с англ. КомКнига, 2006. 248 с. (Серия «Лингвистическое наследие ХХ века»).
- Ломоносов М. В. Российская грамматика. СПб., 1755. 210 с.
- Обнорский С. П. Ломоносов и русский литературный язык // Известия АН СССР. Отд. литературы и языка. Т. I, № 1. М.: Изд-во АН СССР, 1940. С. 53-64.
- Пауль Г. Принципы истории языка. М., 1960. 499 с.
- Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. М., 1956. 510 с.
- Селищев А. М. От автора // Старославянский язык. Введение. Фонетика. М.: Учпедгиз, 1951. С. 4.
- Соссюр Ф. д е . Курс общей лингвистики // Соссюр Ф. де. Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977. С. 7-285.
- Тарланов З. К. Избранные работы по языкознанию и филологии. Петрозаводск: Изд-во ПетрГУ, 2005. 784 с.
- Тарланов З. К. Ментальность и языковедческая исследовательская практика // Метафизика. 2021. № 1 (39). С. 65-78.
- Томсен В. История языковедения до конца Х1Х века. М.: Учпедгиз, 1938. 160 с.
- Трубецкой Н. С. Основы фонологии / Пер. с нем. А. А. Холодовича. М., 1960. 372 с.
- Шахматов А. А. Синтаксис русского языка. / Ред. и коммент. проф. Е. С. Истриной. 2-е изд. Л.: Учпедгиз, Ленингр. отд-ние, 1941. 620 с.