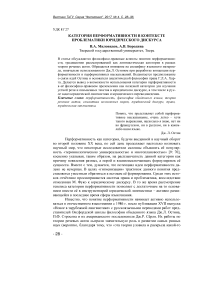Категория перформативности в контексте проблематики юридического дискурса
Автор: Миловидов Виктор Александрович, Бородина Анна Владимировна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Вопросы теории
Статья в выпуске: 4, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье обсуждаются философско-правовые аспекты понятия перформативности, традиционно рассматриваемой как лингвистическая категория в рамках теории речевых актов. Обращается внимание на специфику языкового материала, изначально использованного Дж.Л. Остином при разработке концепции перформативности и перформативных высказываний. Выдвигается предположение о связи идей Остина и основателя аналитической философии права Г.Л.А. Харта. Делается вывод о возможности использования категории перформативности в её философско-правовом преломлении как полезной категории для изучения устной речи и письменных текстов в юридическом дискурсе, в том числе в русле задач юридической лингвистики и юридического переводоведения.
Перформативность, философия обыденного языка, теория речевых актов, семантика возможных миров, юридическая лингвистика, юридический дискурс, право
Короткий адрес: https://sciup.org/146278364
IDR: 146278364 | УДК: 81’27
Текст научной статьи Категория перформативности в контексте проблематики юридического дискурса
Понять, что представляет собой перформативное высказывание, очень легко – хотя такого выражения, насколько я знаю, нет ни во французском, ни в русском, ни в каком-либо ином языке.
Дж. Л. Остин
Перформативность как категория, будучи введенной в научный оборот во второй половине ХХ века, по сей день продолжает настолько волновать научный мир, что некоторые исследователи склонны объяснять её популярность «терминологическою универсальностью и многоплановостью» [9: 70], косвенно указывая, таким образом, на расплывчатость данной категории как причину появления разных, а порой и взаимоисключающих формулировок её сущности. Вместе с тем, думается, что потенциал идеи перформативности далеко не исчерпан. В целях «гигиенизации» трактовок данного понятия представляется уместным обратиться к истокам её формирования. Среди этих истоков отчётливо просматриваются система права и проблематика, впоследствии отнесенная М. Фуко к юридическому дискурсу. В то же время рассмотрение генезиса категории перформативности позволяет с достаточным на то основанием внести её в инструментарий юридической лингвистики – активно развивающейся в последнее время сферы языкознания.
Известно, что понятие перформативности начинает активно использоваться в отечественном языкознании с 1986 г. после публикации XVII выпуска «Новое в зарубежной лингвистике» с русскоязычными переводами работ представителей Оксфордской школы философии обыденного языка Дж.Л. Остина, П.Ф. Стросона и их американского последователя Дж.Р. Сёрля. Их работы по теории речевых актов сыграли значительную роль в развитии самых разных наук (вероятно, благодаря тому, что «эта теория уловила и раскрыла какой-то важный аспект речевой деятельности, который в других деятельностных концепциях не получил должного освещения» [6: 2]). И философы, и лингвисты единодушно высоко оценивают вклад в разработку данной теории, сделанный Дж.Л. Остином: Л.Б. Макеева полагает, что «созданная Остином теория речевых актов стала важным достижением в развитии не только философии языка, но и лингвистики, и история её создания начинается с введением Остином понятия перформативного высказывания» [8: 118]. И.М. Кобозева считает идеи Остина «ядром теории речевых актов» [6: 1]. Н.Д. Арутюнова видит основное значение работ Остина в том, что «они стимулировали представителей Оксфордской школы на поиск общей теории деятельности, включающей как теорию действия, так и теорию речи» [1: 49]. Сам Остин, по словам его коллеги Дж. Сёрля, «как-то выразил мнение, что работа, которую в ХХ веке проделали философы, психологи, лингвисты и др., в конечном счете приведёт к созданию науки о языке, подобно тому, как деятельность учёных самых разных специальностей в XIX и начале XX века в области логики привела в итоге к построению науки логики» [13: 14].
В то же время, эти концепции были изначально представлены советским читателям как преимущественно лингвистические, тогда как их философская составляющая оставалась в тени:
«... действительно, в контексте философско-методологических проблем статья Дж. Остина “Три способа пролить чернила”, посвящённая различению значений слов intentionally 'умышленно’, deliberately 'преднамеренно' и on purpose 'нарочно', выглядит несерьезно. Однако, стоит лишь представить себе, что автором данной статьи является лексиколог, как решаемая в ней проблема сразу приобретает научную значимость. Поэтому при оценке исследований, выполненных в русле лингвистической философии, философы-марксисты проводят чёткое различие между их философско-мировоззренческим содержанием или философскими импликациями и их специально лингвистическим содержанием. Если первое признается безоговорочно теоретически несостоятельным и идеологически вредным, то во втором усматриваются положительные моменты, связанные с решением ряда собственно лингвистических проблем» [6: 2].
С одной стороны, подобный ход позволил беспрепятственно ввести важнейшие для развития российской и мировой лингвистики идеи в отечественный научный дискурс. С другой стороны, дальнейшие исследования последовали, главным образом, в лингвистическом русле, в основном отталкиваясь от предложенной Дж. Сёрлем таксономии иллокутивных актов; сам Остин также высказывался в пользу построения «полезной классификации всех разнообразных речевых актов, которые мы совершаем, когда говорим нечто» [11: 27] (исчерпывающий обзор этих классификаций, включая варианты Дж. Сёрля и Д. Вандервекена, Дж. Лича, Г.Г. Почепцова, К. Баха и Р. Харниша, Дж. Оуэ-ра, Д. Вундерлиха, Б. Фрейзера, У. Стайлза, Дж. Версурена, Ю.Д. Апресяна, Т. Баллмера и В. Бренненштуль, А. Вержбицкой, Е.В. Падучевой и др., приводится в: [3: 145-155]).
Многие исследователи пошли по пути составления классификаций речевых актов, исходя из функционально-семантических характеристик их предикатов-перформативов в различных экспликациях, однако такой путь, как полагает Дж. Лайонз, может в конечном итоге завести в тупик в силу субъек- тивности предложенных классификаций, а также стремящемуся к бесконечности количеству возможных перформативных глаголов, к тому же обусловленных различными лингвокультурологическими контекстами (по словам Дж. Сёрля, Остин «утверждал, что в английском языке таких выражений более тысячи» [14: 56]):
«… сам факт возможности более или менее удовлетворительных альтернативных классификаций конституирует проблему. Как выбрать между той или другой классификацией? Нет оснований полагать, что множество перформативных глаголов в английском или каком-либо другом языке будет отражать все возможные виды иллокутивной силы. Ещё меньше оснований полагать, что должен быть некоторый единственно правильный анализ таких глаголов, приложимый ко всем культурам и ко всем языкам» [7: 266].
В связи с этим, считает Лайонз, «по самым разным причинам не видно особого смысла в разработке полных и предположительно универсальных схем анализа иллокутивной силы, основывающихся на наличии конкретного множества перформативных глаголов в конкретных языках» [цит. раб.: 267].
Этот аргумент никоим образом не обесценивает ранее проделанной кропотливой исследовательской работы учёных, обогатившей российскую и мировую лингвистическую науку, но он подсказывает, что возможны иные подходы к изучению проблематики перформативных высказываний и перфор-мативности как таковой; эти подходы ранее либо не попадали в поле зрения исследователей-лингвистов, либо располагались в ином эпистемологическом поле.
Так, философскую составляющую перформативности не обошли вниманием философы – в частности, те из них, которые занимались проблемами семантики возможных миров. Известный финский логик и философ Я. Хин-тикка в 1956–1959 гг. стажировался в Гарвардском университете – практически сразу после того, как там читал свои лекции Дж.Л. Остин. Будучи в Гарварде, Хинтикка мог непосредственно ознакомиться с концепцией Остина. Так или иначе, но в 1962 г. он предложил перформативную интерпретацию знаменитого выражения Р. Декарта «cogito ergo sum» (я мыслю, значит, я существую) в своей статье «Cogito ergo sum: Inference or Performance?», опубликованной в журнале Philosophical Review, что опять-таки совпало по времени с выходом сборника лекций Дж. Остина «How to do things with words». Суть этой интерпретации состоит в рассмотрении входящих в формулировку картезианского принципа предложений как суждений: «если для предложений существенно быть истинными или ложными, то для суждений как речевых актов существенно исполняться или не исполняться», при этом Хинтикка также вводит понятие экзистенциальной самоверифицируемости (самоверифицируе-мость [неприложимость оппозиции «истинно – ложно»] и автореферентность – ключевые характеристики перформативности) [5: 43]. Впоследствии, как отмечает Е.Г. Драгалина-Черная, предложенный Хинтиккой подход приобрёл немало противников, что, однако, не отменяет самой идеи перформативной интерпретации на основе теории речевых актов – в том числе, для анализа «коги-тального акта в особых иллокутивно невозможных возможных мирах» [цит. раб.: 44]. В этой логике перформативность в своих экспликациях предполагает некую иллокутивную цель – например, «изменить мир посредством осуществ-- 30 - ления этого акта», ибо «успешное исполнение декларатива (скажем, акта именования, вынесения приговора или объявления войны) гарантирует соответствие его пропозиционального содержания миру» [цит. раб.: 45], изменяя тем самым окружающую действительность: по словам Дж. Сёрля, «при использовании перформативов происходит приспособление реальности к словам» [8: 119].
Думается, такой аспект, как изменение существующих и конструирование новых реальностей / миров через их приспособление к исполненным перформативным высказываниям может быть присущ сфере права: так, Т.В. Губаева утверждает, что, «отображая действительность посредством властно установленных предписаний, дозволений и запретов, символический мир права существует объективно в некоей параллели миру реальному» [4: 6], при этом «искусство законодателя состоит в том, чтобы правильно перевести социальные потребности на язык права и сотворить “юридический мир” – ту самую словесно-символическую реальность, в пределах которой определена равная мера свободы субъектов, предписаны формы должного поведения и установлены принципы решения спорных вопросов» [цит. раб.: 32]. М.А. Осадчий относит перформативность «к числу важных особенностей феномена правовой оценки факта», подразумевающей прямое (автореферентное) действие правовой квалификации фактов, а также неотвратимый и системный характер её последствий, влияющих на жизнь людей [10: 7]. Сам Дж. Остин обращал внимание на то, что юридические высказывания-формулировки ( statements ) означают вовсе не реальные факты, а правовые конструкты-фикции, однако юристы продолжают старательно делать вид, что это не так: «yet jurists will succumb to their own timorous fiction, that a statement of “the law” is a statement of fact» [19: 4].
Изучение истории научной деятельности Остина и его коллег позволяет предположить, что интерес Остина к правовой сфере далеко не случаен и вполне закономерен. По его словам, взгляды, изложенные в гарвардских лекциях 1955 г., сформировались ещё в 1939 г. и были окончательно сформулированы в работе «Other minds» (в русском переводе – «Чужое сознание»), впервые опубликованной в «Proceedings of the Aristotelian Society, Supplementary Volume XX» в 1946 г. [цит. раб.: v]. В этом тексте, при попытке ответить на вопросы «откуда мы знаем о чём-либо / ком-либо» и «знаем / можем ли мы знать вообще хоть что-нибудь на самом деле» (можно ли проникнуть в «чужое сознание») в полемике с Дж. Уисдомом, наряду с, казалось бы, «обыденными» краткими аргументами о щегле, кипящем чайнике и чертополохе присутствуют примеры, свидетельствующие о знакомстве автора со сферой уголовного права и процесса Великобритании: например,
«… если убийца сознается в содеянном, то независимо от степени нашего доверия к его словам нельзя сказать, что мы знаем (только) косвенным путём, что преступление совершил он. Мы не можем сказать это и в том случае, когда свидетель, который может как внушать, так и не внушать доверие, утверждает, что он видел всё своими глазами» [12: 55].
Используемые Остином по ходу изложения своих аргументов слова «симптомы» и «признаки» сопоставляются со словами traces (следы чего-либо)
и clues (улики): «когда вы пытаетесь установить, кто убийца, вы рассматриваете как улики только то, что действительно является или может являться уликами, – в этом качестве не могут выступать ни свидетельства очевидцев, ни признание человека, совершившего преступление» [цит. раб.: 84]. Наконец, Остин подчёркивает важность разработки правил (конвенций) для успешной коммуникации по аналогии с судебной деятельностью, однако эта мысль в указанной работе дальнейшего развития не получает:
«… то, что мы доверяем собеседникам, полагаемся на авторитеты и рассказы очевидцев, является характеристиками процесса коммуникации, в котором мы постоянно принимаем участие… Можно говорить об определённых преимуществах этих видов деятельности в том плане, что мы можем разработать набор правил, которые обеспечивают “рациональное” поведение в каждой конкретной ситуации (подобно тому как юристы, историки и психологи разрабатывают правила оценки свидетельских показаний). Но это уже не входит в наши задачи» [цит. раб.: 94].
Таким образом, языковой материал для анализа в данной работе имеет явственную правовую специфику.
За год до этой публикации Остин познакомился с соотечественником Г.Л.А. Хартом – на тот момент преподавателем философии в Нью-Колледже в Оксфорде, до войны занимавшимся адвокатской деятельностью. Впоследствии Харт, ставший основателем аналитической теории и философии права, назвал Остина одним из трёх философов, наряду с Л. Витгенштейном и Дж. Полом, которые повлияли на него больше всех [18: 11], хотя это влияние, вероятно, было взаимным. Помимо философских идей, их могло сблизить общее прошлое (во время войны оба служили в британской разведке: Остин – в MI5, Харт – в MI6), научные интересы: и Харт, и Остин принимали активное участие в деятельности Аристотелевского общества, занимая пост его президента с разницей в один год (Остин был председателем в 1957–58 гг., Харт – в 1959– 60 гг.), а также совместно руководили теоретическим семинаром под названием Excuses , на котором обсуждались вопросы, связанные с условиями и основаниями уголовной ответственности, оценками свидетельских показаний и т.п.
Несмотря на ярко выраженный интерес к языку права и юриспруденции, научная деятельность Харта в тот период оказалась настолько тесно переплетена с идеями аналитических философов, что впоследствии его даже причислили к этой научной традиции наряду с Г. Фреге, Б. Расселом, Л. Витгенштейном, Дж.Р. Сёрлем и др. [18: 11–12]. Харт впервые применил аналитическую философскую методологию к изучению языка права и анализу правовых конструкций с опорой на понятие перформативности [цит. раб.: 14], обосновав это следующим образом: «решающей стадией при прохождении дела в суде, где применению подлежит английское право, обычно является решение (курсив авт. – В.М., А.Б.), вынесенное судом в результате того, что установлена истинность определённых фактов (Смит подсыпал мышьяк в кофе своей жены, и в результате она умерла) и что эти факты влекут определённые юридические последствия (Смит виновен в убийстве). Таким образом, решение есть соединение или смешение фактов и права» [цит. раб.: 28]. В то же время, полагает Харт, простые нетехнические слова, используемые в судебных решениях либо иных юридических документах или устных заявлениях для описания этих фактов, уже являются не просто словами, но предложениями, «для которых право- 32 - веды придумали выражение “деятельностные слова” (operative words), а м-р Дж.Л. Остин слово “перформативный” (performatory)», причем для иллюстрации и обсуждения конкретных юридических случаев Харт отсылает читателей к вышеуказанному тексту Остина «Чужое сознание» [цит. раб.: 42], признавая тем самым значимость идей Остина о перформативности для юриспруденции, теории и философии права. Думается, это было бы неуместно, не будь тексты Остина столь ориентированы на правовой контекст и юридический языковой материал (интересно, что попытка Остина применить идею перформативности в рамках структуры речевого акта, а именно рассмотрение «иллокутивной силы и её понимания как существенного элемента успешного осуществления иллокутивного акта», вызвала у Харта ряд возражений, которые приведены в одной из работ П.Ф. Стросона [17: 44]).
В работе Остина «Performative – constative» (в русском переводе – «Перформативы – констативы»), впервые напечатанной в 1963 г., Остин продолжает использовать юридические метафоры, примеры и аналогии: «перформатив, как и любое другое ритуальное или церемониальное действие, может, как говорят юристы, “не иметь силы”» [11: 24]; типы неудач, связанные с употреблением перформативов, обозначаются им как «незаконность, неправильное использование (неискренность) и нарушение обязательств» [цит. раб.: 25]. Эти идеи моментально подхватывает Э. Бенвенист, поскольку они с точностью попадают в сферу его научных интересов:
«… описывая несколько лет назад субъективные формы языкового выражения, мы отметили в общих чертах различие между “я клянусь”, которое представляет собой некоторое действие, и “он клянется”, представляющим собой лишь сообщение. Термины “перформативный” и “констативный” ещё не использовались, однако суть определения была в том же. Таким образом, теперь представляется случай развить и уточнить наши взгляды, сопоставив их со взглядами Дж.Л. Остина» [2: 305].
Бенвенист действительно во многом развил конвенциональную (правовую) составляющую концепции перформативности: В.В. Богданов особо оговаривает, что компетентность (наличие условий правомочности говорящего) как одна из характеристик перформативности предложена именно Э. Бенвени-стом [3: 166]. Дж. Лайонз намеренно вводит в обсуждение иллокутивных актов «некоторые моменты, которым в англо-американской традиции обычно уделяется меньше внимания, чем во французской традиции, берущей начало в работах Эмиля Бенвениста» [7: 252].
Идеи, изложенные в сборнике гарвардских лекций Остина «How to do things with words» под редакцией Дж.О. Урмсона, изданном в 1962 г. (в русском переводе – «Слово как действие»), И.М. Кобозева охарактеризовала следующим образом:
«… первоначально в качестве основного объекта рассмотрения в теории речевых актов выступали речевые действия, относящиеся к юридической сфере, т.е. регулируемые правовыми нормами. Поэтому Остин нередко апеллирует к опыту юристов, а иногда и полемизирует с ними. Акцент на “юридических” речевых актах, несомненно, отразился на понимании речевого действия как действия, совершаемого согласно определённым неязыковым установлениям, или конвенциям» [6: 3].
Пресловутые конвенции как атрибут перформативных высказываний, обусловленный спецификой использованного Остином исходного языкового материала, стали своего рода «камнем преткновения» для распространения концепции перформативности на все иные возможные ситуации речевых актов вне сферы права и близкой к ней сферы игр (спорта, бриджа, шахмат и т.п.). Достаточно откровенно это высказал коллега Остина П.Ф. Стросон в своей статье «Intention and convention in speech acts» (в русском переводе – «Намерение и конвенция в речевых актах»), опубликованной в 1964 г.:
«… существует много случаев, когда иллокутивная сила высказывания, хотя и не исчерпывается его значением, тем не менее не обусловлена никакими конвенциями, кроме тех, которые помогают приписать высказыванию его значение» [17: 39– 40]. Тем самым, «одни иллокутивные акты конвенциональны, другие – нет (исключая их конвенциональность в качестве локутивных актов). Почему же тогда Остин постоянно утверждает обратное? Маловероятно, что он совершил простую ошибку, сделав универсальное обобщение на основе нескольких примеров. Гораздо вероятнее, что он имел в виду некоторое другое, более фундаментальное свойство иллокутивных актов, которое мы, собственно, и должны обнаружить», причём «не следует жалеть времени на выяснение причины использования Остином этого термина» [цит. раб.: 41].
Представляется, что для Стросона найти ответ на данный вопрос всё же оказалось затруднительным, поскольку он приходит к следующему выводу: конвенциональные акты (в основе которых лежат, согласно Стросону,
«… конвенционально-конституированные процедуры»), «составляют важную часть общения между людьми. Однако они не составляют ни общения в целом, ни, по-видимому, наиболее фундаментальной его части. Было бы ошибкой рассматривать их в качестве модели для понимания общего понятия иллокутивной силы, каковую тенденцию, возможно, проявляет Остин, когда он настаивает на том, что иллокутивный акт является по природе своей конвенциональным, и связывает это положение с возможностью эксплицирования данного акта с помощью перформативной формулы» [17: 54].
Отвечая на тот же вопрос о конвенциональных актах в статье «What is a speech act?» (в русском переводе – «Что такое речевой акт?»), Дж.Р. Сёрл продвинулся несколько дальше, отметив, что его настораживает, когда в научных дискуссиях о конвенциях и правилах «ни один философ … ни разу не предложил ничего похожего на адекватную формулировку правил употребления хотя бы одного выражения» [14: 58]. Сёрл предложил свою классификацию конвенций / правил, разделив их на регулятивные (регулирующие «деятельность, существовавшую до них,.. существование которой логически независимо от существования правил») и конститутивные (создающие и регулирующие «деятельность, существование которой логически зависимо от этих правил»), причём в основу разграничения были положены идеи Дж. Роулза из сферы теории и философии права [14: 59], благодаря чему взаимодействие философских, правовых и лингвистических идей сделало очередной диалектический виток.
В 1990-х гг., спустя почти полвека после первых публикаций работ Оксфордских аналитических философов, от «центрального ствола лингвистики», по образному выражению Ю.С. Степанова [16: 5], начинает отпочковываться и активно развиваться новая ветвь – юридическая лингвистика, в чей - 34 - эпистемологический и методологический аппарат концепция перформативно-сти, выработанная на основе преимущественно юридического языкового материала, думается, может гармонично вписаться как полезная категория для анализа устных и письменных оригинальных и переводных юридических текстов, а также юридического и судебного дискурсов как «возможных (альтернативных) миров в полном смысле этого логико-философского термина» [15: 45]. Таким образом, осмысление философско-правового контекста перформативно-сти позволяет вывести её изучение на новые рубежи – как лингвистические, так и междисциплинарные. В этой связи уместно предположить, что предложенная Остином концепция перформативности в чём-то опередила своё время. Перефразируя слова ближайшего коллеги Остина Дж.Р. Сёрля [14: 57], авторы данной статьи не знают, как это доказать, но всё же постарались привести аргументы, с помощью которых можно попытаться убедить тех, кто настроен скептически.
Список литературы Категория перформативности в контексте проблематики юридического дискурса
- Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл: логико-семантические проблемы. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. 384 с.
- Бенвенист Э. Общая лингвистика:/пер. с фр. 4-е изд. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. 448 с.
- Богданов В.В. Предложение и текст в содержательном аспекте. СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2007. 280 с.
- Губаева Т.В. Язык и право. Искусство владения словом в профессиональной юридической деятельности: монография. М.: Норма: ИНФРА-М, 2015. 176 с.
- Драгалина-Черная Е.Г. Дедукции существования. Путешествуя по возможным и невозможным мирам//Возможные миры. Семантика, онтология, метафизика. М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2011. С.40-65.
- Кобозева И.М. «Теория речевых актов» как один из вариантов теории речевой деятельности//Новое в зарубежной лингвистике. Выпуск XVII. Теория речевых актов. М.: «Прогресс», 1986. С. 1-7.
- Лайонз Дж. Лингвистическая семантика: введение/пер. с англ. М.: Языки славянской культуры, 2003. 400 с.
- Макеева Л.Б. Язык, онтология и реализм. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011. 310 с.
- Мироненко С.А. Определение понятий «перформативность» и «перформанс» в научно-исследовательском дискурсе//Вестник АГУ. Сер. 2: Филология и искусствоведение. 2014. № 1(143). С. 69-74.
- Осадчий М.А. Русский язык на грани права: формирование русского языка в условиях правовой регламентации речи. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2016. 256 с.
- Остин Дж.Л. Перформативы -констативы//Философия языка/пер. с англ. М.: Едиториал УРСС, 2011. С. 23-34.
- Остин Дж.Л. Чужое сознание//Философия, логика, язык/пер. с англ. и нем. М.: Прогресс, 1987. С. 48-95.
- Сёрл Дж.Р. Введение//Философия языка:/пер. с англ. М.: Едиториал УРСС, 2011. С.6-22.
- Сёрл Дж.Р. Что такое речевой акт?//Философия языка/пер. с англ. М.: Едиториал УРСС, 2011. С. 56-74.
- Степанов Ю.С. Альтернативный мир, Дискурс, Факт и принцип Причинности//Язык и наука конца ХХ века: сб. статей. М.: Рос. гос. гуманит. ун-т, 1995. С. 35-73
- Степанов Ю.С. Эмиль Бенвенист и лингвистика на пути преобразований. Вступительная статья//Бенвенист Э. Общая лингвистика: пер. с фр. 4-е изд. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. С. 5-16.
- Стросон П.Ф. Намерение и конвенция в речевых актах//Философия языка:/пер. с англ. М.: Едиториал УРСС, 2011. С. 35-55.
- Харт Г.Л.А. Философия и язык права. М.: Канон+ РООИ «Реабилитация», 2017. 384 с.
- Austin J.L. How to do things with words. Oxford University Press, 1962 . URL: http://bookre.org/reader?file=795184&pg=1 (accessed at 30.09.2017).