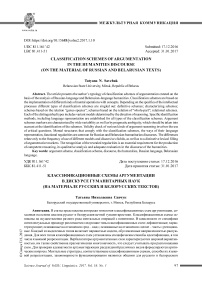Классификационные схемы аргументации в дискурсе гуманитарных наук (на материале русских и белорусских текстов)
Автор: Савчук Татьяна Николаевна
Журнал: Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2: Языкознание @jvolsu-linguistics
Рубрика: Межкультурная коммуникация и сопоставительное изучение языков
Статья в выпуске: 1 т.16, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье представлена авторская типология классификационных схем аргументации, созданная на основе анализа русско- и белорусскоязычной гуманитаристики. Классификационные схемы основаны на осуществлении разного рода ментальных операций с понятиями. В зависимости от специфики интеллектуальных процедур различаются следующие типы классификационных схем: дефинитивные; характеризующие; основанные на отношении «род - вид»; основанные на отношении «целое - часть»; реляционные. Каждый из выделенных типов включает вариантные модели, обусловленные направленностью рассуждения. Для всех типов классификационных схем установлены специфические способы идентификации, в том числе языковой репрезентации. Вербализаторы аргументативных схем характеризуются широкой вариативностью, им также свойственна прагматическая многозначность, что следует учитывать при распознавании схем. Для проверки адекватности аргументирующих рассуждений различных видов формулируются критические вопросы. Ментальные структуры, соответствующие классификационным схемам, способы их языковой репрезентации, закономерности функционирования являются общими для русского и белорусского гуманитарных дискурсов. Различия касаются лишь частотности употребления тех или иных моделей и дискурсивных клише, а также своеобразия лексического наполнения вербализаторов. Учет установленных закономерностей является необходимым условием грамотного продуцирования аргументации, ее качественного анализа и адекватной оценки в дискурсе гуманитарных наук.
Схема аргументации, классификационная схема, дискурс, гуманитарные науки, русский язык, белорусский язык
Короткий адрес: https://sciup.org/14970047
IDR: 14970047 | УДК: 811.161'42 | DOI: 10.15688/jvolsu2.2017.1.10
Текст научной статьи Классификационные схемы аргументации в дискурсе гуманитарных наук (на материале русских и белорусских текстов)
DOI:
Существенным фактором, влияющим на эффективность аргументации как убеждающего интеллектуально-речевого воздействия, является тип аргументативной схемы (АС), то есть «внутренней структуры» [Eemeren et al., 1996, p. 18], или «внутренней организации» [Eemeren, 2014, p. 19], аргументирующего рассуждения. АС, отражая связи между структурными элементами аргументации – посылками (аргументами / доводами) и тезисом (точкой зрения), позволяет установить, «какие принципы, стандарты, критерии или общепризнанные факты были применены в той или иной попытке обосновать или опровергнуть тезис» [Eemeren, 2001, р. 21].
Исследователи отмечают «жизненно важную роль» аргументативных схем «в создании теоретических инструментов для анализа и оценки аргументативного дискурса», которые носят прагматический характер и «должны дополнить, если не заместить», формально-логические критерии [Eemeren, 2014, р. 19]. В связи с этим подчеркивается, что «теоретическое определение и категоризация аргументативных схем, способы их распознавания... являются в теории аргументации важнейшими темами исследования» [Eemeren, 2014, р. 19–20].
Систематическое изучение АС восходит к античным топическим традициям, заложенным Аристотелем и Цицероном (подробно об этом см. в: [Braet, 2004; Zompetti, 2006]). Результат неизменного интереса к АС – многочисленные их классификации, являющиеся, по мнению специалистов, адаптированными вариантами таксономических моделей, созданных в рамках античных топических систем [Braet, 2004, p. 127–129; Zompetti, 2006, p. 15–19].
На сегодняшний день единой общепризнанной классификации АС не существует. Объясняется это, очевидно, сложностью задачи, различием исследовательских целей и подходов, а также многообразием дискурсивных практик.
Изучение аргументации в дискурсе гуманитарных наук 1 позволило создать авторскую типологию АС, фрагмент которой представлен в рамках данной статьи.
Функцией гуманитарного научного познания является выработка «объективных, системно организованных и обоснованных знаний» [Степин, 1999, с. 457] о социальной действительности. Если учитывать, что любые знания – это выраженная в словесной форме система понятий [Савчук, 2012, с. 3], то вполне естественным, а потому предсказуемым оказывается широкое использование в научно-гуманитарном дискурсе аргументации, основанной на оперировании понятиями. Принципы осуществления разного рода ментальных операций с понятиями лежат в основе аргументативных схем, которые мы назвали классификационными (КС).
Применение КС базируется на универсальном для АС механизме воздействия: если реципиент принимает аргументы, он должен согласиться с пропонируемым тезисом, учитывая конвенциональную связь между структурными элементами аргументации [Garssen, 2001, p. 81]. (Эта связь, на наш взгляд, имеет формально-логические и прагматические свойства.) Конкретизация общего механизма аргументации применительно к классификационным схемам происходит с учетом прагматической специфики их разновидностей.
В нашей концепции к классификационным относятся пять типов схем: дефинитивные схемы (ДС); характеризующие схемы (ХС); схемы, основанные на отношении «род – вид» (РВС); схемы, основанные на отношении «целое – часть» (ЦЧС); реляционные схемы (РС).
Каждая схема представлена двумя разновидностями и предполагает множество ва- риантов содержательного наполнения. Для различных типов КС характерны особые способы идентификации. Для проверки КС формулируются специальные «оценочные», или «критические», вопросы [Eemeren, 2014, p. 19].
Дефинитивные схемы основаны на использовании в аргументирующем рассуждении логического определения (дефиниции).
A) Если Х обладает существенными признаками х1,..., хn, то, вероятно, Х проявляет х1,..., хn в ситуации Р (в отношении Y). Ход аргументации направлен от утверждения сущности предмета мысли, которая фиксируется дефиницией, к утверждению закономерных проявлений этой сущности 2: Предметом статьи является дискурс, понимаемый как особая форма «социального знания», позволяющая рассматривать отдельный текст в качестве выражения определенной исторической и идеологической практики (ФН4, с. 68). Убеждение реципиента в функциональной специфике дискурс-анализа предполагает опору на дефиницию концепта «дискурс».
Пад этналінгвістычнай атракцыяй прапануецца разумець адмысловы выпадак народнай этымалогіі, а менавіта ўзаемнае суаднясенне некаторых найменняў, част-ка якіх у выніку такога суаднясення можа пераходзіць у сферу вербальнага кода тра-дыцыйнай народнай культуры таго ці іншага этнасу (БЛ1, с. 3). Аргументируемый вариативный потенциал этнолингвистической аттракции невозможно понять (и принять) без экспликации сущности этой категории.
Используемое в аргументе определение может быть как реальным, так и номинальным. Первое, как известно, дает отличительную характеристику предмета, второе раскрывает, уточняет, формирует смысл одних языковых выражений с помощью других [Савчук, 2012, с. 7]. Если применение реальных определений нацелено на прагматику убеждения, то номинальные определения реализуют значимый в гуманитаристике объяснительный потенциал аргументации: Как следует из самого термина, объединившего в себе два базовых компонента – «медиа» (массме- диа) и «лингвистика», – предметом этой новой дисциплины является изучение функционирования языка в сфере массовой коммуникации. Иначе говоря, медиалингвистика занимается исследованием определенной сферы речеупотребления – языка массмедиа (ВМУ, с. 9). В обосновании концепции медиалингвистики задействован объясняющий аргумент – определение ключевого термина, что делает аргументацию более убедительной.
Звернемся да дэфініцыі слова «культура»... Само слова «культура» бярэ па-чатак з лацінскага, якое першапачаткова азначала – апрацоўка, дагляданне, шана-ванне, паляпшэнне (ВНАНБ, с. 68).
Б) Если Х регулярно реализует свойства х1,..., хn, в ситуации Р (в отношении Y), то, вероятно, х1,..., хn являются существенными признаками Х . Как видим, эта разновидность ДС предполагает противоположный ход аргументации – от утверждения закономерных проявлений категориальных свойств / отношений предмета мысли в посылке к установлению его сущности (дефиниции) в тезисе. Указания на такой вариант схемы можно обнаружить в заголовках статей, в аннотациях. Например: В статье предлагается трактовка фонемы как двусторонней языковой единицы, включающей означающее и означаемое, внешнюю оболочку и содержание (ВЯ2, с. 92); Адна з асноўных задач – выпрацоўка лінгвістычнага разумення феномена лек-січнай катэгорыі (БЛ, с. 12).
Помимо стандартных дефинитивных связок (русск. это, представляет собой; бело-русск. гэта, уяўляе), в качестве репрезентан-тантов ДС выступают следующие речевые конструкции: русск. понимается как; определяется как; предлагается трактовка... как; существенная особенность... заключается в том, что; специфическими свойствами... являются; сущность... раскрывается как; представляется целесообразным введение термина..., под которым мы понимаем; в самом общем смысле под... понимается; белорусск. тэрмін... мае наступ-нае значэнне; тэрмін... разумеецца як; пад... прапануецца разумець; найбольш апты-мальным будзе наступнае разуменне; най- больш дакладным уяўляецца разуменне... як; ...разглядаецца як и др.
Критические вопросы: Действительно ли признаки х1, ..., хn свойственны предмету Х ? Являются ли признаки х1, ..., хn существенными для Х ?
Характеризующие схемы базируются на применении в аргументации характеристики предмета мысли, связанной с его оценкой. Соответственно, в отличие от ДС, структурирующих дескриптивные рассуждения, ХС используются для обоснования оценочных суждений.
А) Если Х имеет позитивную / негативную / нейтральную ценность, то, вероятно, Х реализует позитивные / негативные / нейтральные признаки х1,..., хn в ситуации Р (в отношении Y). Мысль в данном случае развивается от сущности к явлению: Праздник двойственен по своему характеру . С одной стороны, он связан с идеей смены и вечного обновления, с другой... он связан с идеей неподвижности и возврата к тому, что уже было. Поэтому праздник используется и как механизм продвижения новых идей, и как механизм тормоза общественного развития (НИК1, с. 21); Будучы спецыфічным сродкам перап-рацоўкі і захавання інфармацыі, а такса-ма важнейшай крыніцай яе атрымання, слоўнік як самы старажытны від лінгвістычнай прадукцыі з’яўляецца адной з найбольш складаных і істотных форм моўнага апісання... (БЛ3, с. 9) – аргументом в обосновании значимости проблем составления двуязычных словарей является экспликация важности (позитивной ценности) подобных лексикографических источников. Рэабілітацыя нацызму – надзвычай небяс-печны шлях. Нацызм... – таталітарная ідэалогія ,... звязаная з рэпрэсіўнымі, экст-рэмісцкімі метадамі ўлады, крайнім нацы-яналізмам ..., што суправаджалася зла-чынствамі супраць чалавечнасці, генацы-дам.... (ВБДУ, с. 62) – негативная характеристика-оценка нацизма призвана сформировать негативное отношение к реабилитации этой идеологии.
Как видно из примеров, маркерами ХС являются разного рода акцентуаторы, а также коннотированные языковые единицы.
Б) Если Х реализует позитивные / негативные / нейтральные признаки х1, ..., хn в ситуации Р (в отношении Y), то, вероятно, Х имеет позитивную / негативную / нейтральную ценность. В этой модели аргументирующее рассуждение направлено от явления к сущности: Все эти особенности составляют действительную уникальность сетевого текста, который и в прямом, и в переносном смысле оказывается «живым» : и как процесс мышления, разворачивающийся «здесь и теперь», и как саморегулирующаяся самодостаточная система, обладающая собственным метаболизмом (ВМУ-Ж, с. 80); Ацэнка як найважней-шы аспект актыўнай камунікатыўна-паз-навальнай дзейнасці чалавека, як асноўны паказчык суб’ектыўнага фактару з’яўля-ецца адным з галоўных класіфікатараў катэгорыі моўнай мадальнасці (БЛ4, с. 12).
Наличие в характеризующе-оценочных суждениях аксиологических квалификаторов, метафоричность позволяют идентифицировать ХС. Этому способствует также употребление соответствующих лексических индикаторов, представленных лишь в русских текстах: Культурная компетентность личности может быть охарактеризована как соответствующего рода воспитанность, утонченность параметров ее социальной адекватности, как идеальная форма составляющих ее духовного мира... (НИК4, с. 93).
Однако нередко в естественно-языковой коммуникации лексическое значение аргумен-тативных маркеров не совпадает с их прагматическим значением: одни и те же дискурсивные клише (дискурсивные клише, включающие одинаковые лексемы) могут маркировать разные схемы. Такое явление мы называем прагматической многозначностью вер-бализаторов (подробно см.: [Савчук, 2016, с. 467]). Возможно и обратное: дискурсивные клише, включающие разные лексемы, могут маркировать одинаковые схемы. Например: В статье сделана попытка охарактеризовать морфему с позиций интегративной лингвистики и уточнить ее статус как язы- ковой единицы (ФН1, с. 37) и Психологическую культуру можно определить как психологические знания, оплодотворенные общечеловеческими ценностями... (НПЖ1, с. 20). Аргументация в первом из приведенных примеров предполагает выявление дескриптивных признаков анализируемой категории, а значит, использование ДС. Во втором случае в структуру рассуждения вводится образная характеристика предмета мысли, значит, применяется ХС. Вместе с тем вербальные указатели нацеливают на иную трактовку, то есть направляют реципиента «по ложному пути». Языковые единицы в подобных ситуациях квалифицируются нами как «“ложные друзья” интерпретатора» [Савчук, 2016, с. 467].
Критические вопросы: Действительно ли позитивные / негативные / нейтральные признаки х1, ..., хn свойственны Х ? Является ли характеристика / оценка Х адекватной? (Действительно ли Х имеет позитивную / негативную / нейтральную ценность?)
Схемы, основанные на отношении «род – вид», направлены на упорядочение предметов мысли путем выявления иерархических связей между ними.
А) Если Х (Х1, ..., Хn) принадлежит / не принадлежит роду Y, то, вероятно, Х (Х1, ..., Хn) обладает / не обладает родовым признаком y. Внимание реципиента привлекается к интегральным признакам, имеющим, с точки зрения аргументатора, более важное значение, чем признаки специфические, следовательно, имеет место логическая операция обобщения (подробно см.: [Савчук, 2012; Яскевич, 1993; Braet, 2004]), например: Терроризм, как одна из форм агрессивного поведения, выражается в преднамеренном причинении вреда, приводящего к ущемлению или блокаде основных человеческих потребностей, в крайней форме – к смерти. Являясь разновидностью инструментальной агрессии, террористический акт преследует своей целью выражение протеста со стороны объекта (личность, группа) по отношению к определенным общественным нормам (НПЖ2, с. 28); Ад- розненні ў магчымасцях валодання падоб-нымі тэхналогіямі вызначаюцца сёння па-няццем інфармацыйнай, або лічбавай, ня-роўнасці, якая разумеецца як новы від са-цыяльнай дыферэнцыяцыі (ВНАНБ1, с. 8).
Если Х (Х1, ..., Хn) является видом рода Y, то, вероятно, Х (Х1, ..., Хn) обладает не только родовым признаком y, а также видовыми признаками х1, ..., хn. Применение логической процедуры ограничения (подробно см.: [Савчук, 2012; Яскевич, 1993; Braet, 2004]) позволяет сфокусироваться на обосновании специфики предмета, определяемой его дистинктивными признаками: Этническая толерантность рассматривается исследователями как проявление общей толерантности личности в сфере этнических отношений (СА1, с. 246); Лексічныя вары-янты – гэта агульнамоўныя, агульнаўжы-вальныя слоўнакампанентныя разнавід-насці фразеалагізма. Гэта найбольш па-шыраны тып фразеалагічнай варыянт-насці (БЛ5, с. 32).
Б) Если Х (Х1, ..., Хn) обладает / не обладает родовым признаком y, то, вероятно, Х (Х1, ..., Хn ) принадлежит / не принадлежит роду Y. Наглядной иллюстрацией этой модели является следующая аргументация: Но именно потому, что наука является сферой духовной жизни людей, сферой духа, она включена в культуру социума и в широком понимании термина «культура» (совокупность материальных и духовных ценностей), и тем более в узком его понимании (сфера духовной жизни социума) (ФН2, с. 4).
Вербальными индикаторами РВС служат разнообразные дискурсивные формулы типа: русск. к числу средств... относят... ; среди разнообразных видов... наибольшей продуктивностью отличаются ; к... следует относить... ; ...могут иметь как... так и... природу ; ...могут быть беспредельно разнообразны ; белорусск.... у межах ...паўстае як ; ...як і (ўсякі / кожны)... гэта ; ...як самы распаўсюджаны тып... увасабляе ; асобнай групай вылучаюцца... ; асобна вылучаецца група... адметнасць... утвараецца... и т. п.
Критические вопросы: Действительно ли Х принадлежит Y ? Обладает ли Х родовым признаком у ?
Схемы, основанные на отношении «целое – часть» , регламентируют аналитическое деление, позволяют глубже понять класс предметов мысли и каждый предмет этого класса.
-
А) Если Х (Х1, ..., Хn) составляет часть целого Y, то без Х невозможно понимание Y (для целостного понимания Y необходим анализ Х (Х1, ..., Хn)). Прямое указание на этот вариант ЦЧС нередко дается автором научной статьи: ...для четкого представления о том, в чем заключается своеобразие креативного управления, существенное значение имеет выяснение смысла понятия «креативность» (СА, с. 13).
Такая схема обеспечивает мысленный переход от части к целому: Однако психологическое образование включает не только психологические знания, но и психологическую культуру, которая является существенной частью общей культуры (НПЖ1, с. 19). Пример показателен в том смысле, что ЦЧС используется на макро- и микроуровнях: обоснование значимости психологического образования опирается на характеристику различных аспектов этого феномена, каждый из которых, в свою очередь, складывается из более мелких составляющих. В результате аргументация приобретает устойчивые основания.
Указанием на рассматриваемый вариант ЦЧС служит рубрикация. Так, в белорусскоязычной статье «Гіпертэкст» целостность обозначенного в заговке концепта раскрывается в отдельных аспектах, которые зафиксированы в рубриках: Вызначэнне гіпертэксту. Перадгісторыя гіпертэксту. Апраўданне гіпертэксту. Спосаб існавання гіпертэксту. Гіпертэкставая прастора. Праца з гіпер-тэкстам. Выкарыстанне гіпертэксту (РС, с. 79–83). Аналогичные примеры встречаются и в текстах на русском языке (см., в частности: ВМУ-Ж ).
Такой схемы придерживаются ученые, строящие обоснование своей точки зрения на периодизации, то есть установлении «качественно отличных друг от друга промежутков времени в процессе развития некоторого объекта» [Савчук, 2012, с. 12]; заголовок и аннотация прямо на это указывают: Статья посвящена истории формирования и изучения русского молодежного жаргона в аспекте его терминообозначения на разных этапах развития языка (ВЯ1, с. 108).
Б) Если Х (Х1, ..., Хn) составляет часть целого Y, то анализ Х (Х1, ..., Хn) должен осуществляться в рамках Y. Такая схема предполагает переход от целого к части. В некоторых случаях целесообразность ее применения объясняется автором научной статьи (подтверждение находим лишь в белорусскоязычном материале): Каб лепей зразумець і асэнсаваць асаблівую актуальнасць і вас-трыню праблемы мастацкіх кіраўнікоў у сённяшнім беларускім тэатры... варта спачатку зірнуць на ўсю панараму сучас-нага тэатральнага працэсу... (БД3, с. 62). В других ситуациях предпочтительность данной модели становится очевидной из контекста: Между тем, психология как наука и как практика является существенным компонентом общей культуры . Культура – понятие сложное, многоаспектное и междисциплинарное (НПЖ1, с. 17); Культура – цэласная сістэма , элементы якой – нормы і каштоўнасці, веды і арыентацыі, трады-цыі і міфы, навука і мастацтва – утвара-юць дынамічную структуру... Вызначаль-ны цэнтр гэтай сістэмы, яе стваральнік, носьбіт і “рухавік” – асоба . Менавіта ў “прасторы асобы”... фарміруюцца, выяў-ляюцца, спрацоўваюць (ці не спрацоўва-юць) усе складнікі культуры, яе працэсы і феномены (БД2, с. 161).
Индикаторами ЦЧС выступают существительные с партитивной семантикой: русск. компонент , элемент , аспект , часть , параметр , составляющая , подсистема , ипостась , грань , сфера , область ; белорусск. ча-стка , складнік , кампанент , элемент , падсі-стэма , а также некоторые глаголы: русск. объединять , включать , составлять , соединять ; белорусск. вылучаць , утвараць , скла-даць и др.
Дискурсивные формулы, маркирующие ЦЧС, нередко распространяются посредством акцентуаторов, регулярное употребление которых приводит к образованию стереотипных выражений, таких как: русск. необходимая составляющая; неотъемлемая часть; выс- тупает важной отраслью; наиболее сложный элемент; белорусск. істотны аспект; адзін з самых значных аспектаў; найваж-нейшы складнік асноўны элемент и т. п.
Распознавание ЦЧС затрудняется при употреблении прагматически многозначных вербализаторов. Так, в названии статьи по культурологии «Народная музыка – неотъемлемая часть народного художественного творчества» и в ее аннотации: В данной статье народное музыкальное творчество рассматривается как синкретичное искусство, часть народного куль-туротворчества... (НИК5, с. 57), употребляется стандартный маркер ЦЧС. Однако логико-дискурсивный анализ показывает, что аргументация строится на основе родо-видовых отношений. Это принципиальный момент для оценки обоснования, поскольку существенное различие схем базируется на логических закономерностях: часть не обладает признаками целого, а вид всегда имеет признаки рода [Савчук, 2012, с. 12].
Критические вопросы: Действительно ли Х является частью Y ? Действительно ли Х не обладает свойством у ?
Реляционные схемы предполагают сопоставление участвующих в аргументирующем рассуждении категорий и установление логических отношений между ними.
А) Если между Х и Y имеет место отношение xy, то Х обладают признаками х1, ..., хn, Y обладают признаками y1, ..., yn. Назначение данного варианта РС – выявить специфику предмета мысли путем сопоставления с другими понятиями: Таким образом, диспозиции чиновников по многим показателям противоположны диспозициям интеллигенции, что дает основание нам рассматривать бюрократию как «антиинтеллигенцию» (НИК2, с. 112); Выяў-ленне суадносін іх структурна-граматыч-най, сэнсавай арганізацыі, апісанне каму-нікатыўнага прызначэння пацвярджаюць думку аб тым, што сказ і выказванне нельга разглядаць як адзінкі розных сістэм, гэта адзіны аб’ект, які вывучаец-ца ў розных аспектах (БЛ2, с. 72). Такая интенция нередко эксплицируется аргумента-тором: Исследователи пытаются понять природу и суть этого явления и определить, как мода соотносится с другими, когнитивно связанными с нею феноменами, такими, как вкус, стиль, престиж, одежда... Что касается соотношения понятий мода и вкус, то мода не зависит от вкуса и может ему противоречить (ФН3, с. 86); Слова і ісціна – катэгарыяль-ныя паняцці журналісцкай творчасці. Слова ў ісціне ці ісціна ў слове? І што ёсць ісціна? Пытанні, якія хвалявалі чалавека з далёкай даўніны (ВБДУ1, с. 85).
Б) Если Х обладает признаками х1, ..., хn, Y обладает признаками y1, ..., y n, то между Х и Y имеет место отношение xy . Применение такой модели позволяет аргумен-татору обосновать определенный тип отношений между категориями (а значит, упорядочить фрагмент описываемой реальности) для лучшего понимания исследуемой проблемы (круга проблем) реципиентом.
Логическая природа отношений между концептами, включенными в структуру научной аргументации, может быть различной: эквивалентность, пересечение, подчинение, противоположность, противоречие, исключение. Многообразные типы эксплицируемых отношений имеют лексическую маркировку: Психосоциальная деформация – понятие более широкое, чем структурная деформация. Ведь психосоциальная деформация может быть присуща как полной, так и неполной семье (НПЖ3, с. 41); Мы видим, что реальный «постиндустриализм» на самом деле означает не доминирование интеллектуального труда над материальным и не только их разделени е в рамках национальных экономик, а их глобальное противостояние ... (НИК3, с. 120); Такім чынам, параўнанне парцыляваных і непар-цыляваных канструкцый... робіць мэтаз-годным разглядаць іх як варыянты адной сінтаксічнай структуры , інтанацыйна падзеленай на часткі (БЛ2, с. 78); У этна-культурнай дынаміцы этнасу традыцыі і навацыі выступаюць як два супрацьлеглых і разам з тым узаемадапаўняючых працэ-сы , якія аднолькава неабходны для функ-цыянавання культуры (ВНАНБ, с. 72).
Указание на данный вид РС может явно присутствовать в прагматически сильных позициях научного текста – в заголовке, в аннотации, а также во вводной или заключительной частях сообщения: Значнасць атрыма-ных рэзультатаў вызначаецца тым, што на ўзроўні тэарэтычнага і эмпірычнага аналізу ўстаноўлены суадносіны паміж двума навуковымі паняццямі : вобраз «Я» разглядаецца ва ўзаемасувязі з працэсам сацыяльна-псіхалагічнай адаптацыі (ВБДПУ, с. 50) – экспликация схемы в первом абзаце текста; И все же, несмотря на различия, бюрократия, интеллигенция и интеллектуалы взаимосвязаны . На практике зачастую сложно провести четкие границы между ними, что и служит источником мифологизации проблемы в массовом сознании (НИК2, с. 113) – проявление схемы в завершающем абзаце.
Способы языковой репрезентации РС многообразны. Индикаторами РС служат реляционные глаголы и их дериваты: русск. соотноситься , сопоставляться , коррелировать , сближать(ся) , различать(ся) ; белорусск. суадносіцца , адпавядаць , карэліраваць , су-падаць , аб’ядноўваць , аб’ядноўвацца , адроз-ніваць , адрознівацца. В роли вербализаторов выступают также речевые формулы с реляционной семантикой (русск. особенности... по отношению к... ; в отличие от... ; как и... ; если ..., то ... ; по сравнению с... ; белорусск. у адрозненне ад... ; у параўнанні з... ; як і... ; калі..., то... ), а также дискурсивные клише, указывающие на различные логические связи: русск. понятия... взаимосвязаны ; понятие... имеет родовой / интегральный статус ; понятие шире по объему, чем... ; характеристики... не совпадают в полной мере ни по объему, ни по содержанию ; не сводится к... ; один из возможных видов... ; белорусск. адзінкі / элементы розных сістэм ; гэта адз-іны аб’ект, які вывучаецца ў розных аспектах ; родавы тэрмін у адносінах да... ; паняц-це больш шырокае, чым... ; ...не супадае не-пасрэдна з... ; разглядаць... як самастойную адзінку ; варыянты адной структуры ; асоб-ныя кампаненты ; адносная самастойнасць ; ... падсістэмы цесна ўзаемазвязаны паміж сабой ; паняцце... мае агульны характар ; феномен... уключае и т. п.
Критические вопросы: Действительно ли между Х и Y имеет место отношение xy ? Действительно ли Х обладает признаками х1, ..., хn, Y обладает признаками y1, ..., y n ?
Продемонстрируем возможность использования представленной типологии КС для анализа и оценки аргументативного дискурса на одном примере. В заголовке белорусскоязычной статьи по журналистике Не «чацвёр-тая ўлада», а палітычны інстытут грамад-ства! (БД1) репрезентировано мнение о том, что СМИ является политическим институтом общества. Его обоснование предусматривает использование РВС ( Если Х (Х1,..., Хn) обладает / не обладает родовым признаком y, то, вероятно, Х (Х1,..., Хn ) принадлежит / не принадлежит роду Y. ). Это означает, что в аргументе должно утверждаться наличие у СМИ родового признака политического института, что, в свою очередь, предполагает экспликацию категории «политический институт». Однако такие доводы отсутствуют, что дает основание говорить о некорректности предложенной аргументации и, как следствие, о недоказанности тезиса.
Полученные в результате исследования общие выводы таковы.
В дискурсивной научно-гуманитарной практике различные типы КС и их разновидности, как правило, комбинируются. Особенности их сочетания определяются спецификой гуманитаристики, отражающей многообразную социальную реальность. Очевидно, что «вычленение» аргументативных моделей из дискурса продиктовано исследовательскими задачами их систематизации и описания.
Областью применения КС являются преимущественно теоретические рассуждения (в противоположность практическим), связанные с конструированием новых абстрактных объектов и признаков, с обоснованием отношений научных категорий, с эмпирической и семантической интерпретацией элементов теоретических систем.
КС актуализируют объяснительную составляющую аргументации, важную роль понимания в аргументационном процессе: «понимание научной концепции является предпосылкой ее принятия и вписывания в культуру» [Яскевич, 1993, с. 101]. Взаимосвязь и взаимообусловленность аргументации и понимания подтверждается регулярностью применения КС в научно-гуманитарном обосновании.
Использование КС предполагает учет логического и прагматического измерений аргументации. Из этого следует, что достижение убеждающего воздействия обеспечивается не только выбором уместной в данном прагматическом контексте модели, но также адекватностью ее содержательного наполнения и вербализации. Интерпретация аргументативного дискурса всегда опирается на дискурсивные (конситуативные, социокультурные) параметры.
Ментальные структуры, соответствующие КС, способы их языковой репрезентации, закономерности функционирования являются общими для русского и белорусского гуманитарных дискурсов. Различия касаются лишь частотности употребления тех или иных моделей и дискурсивных клише, а также своеобразия лексического наполнения вербализаторов.
КС представляют собой как способ продуцирования качественного аргументирующего рассуждения, так и эффективный механизм его оценки. Поэтому знание и учет закономерностей КС являются необходимым условием оптимизации аргументативной деятельности в дискурсе гуманитарных наук. Установление, систематизацию и анализ различных типов ар-гументативных схем мы рассматриваем как перспективное направление аргументологических исследований.
Список литературы Классификационные схемы аргументации в дискурсе гуманитарных наук (на материале русских и белорусских текстов)
- Савчук, Т. Н. Вербализация аргументативных структур в научном гуманитарном дискурсе/Т. Н. Савчук//Русистика и современность: 18-я Междунар. науч. конф.: сб. науч. работ. -Рига: Балт. междунар. акад., 2016. -С. 461-468.
- Савчук, Т. Н. Оперирование понятиями как логическая основа эффективного обучения языку и речи/Т. Н. Савчук//Русский язык и литература. -2012. -№ 5. -С. 3-13.
- Степин, В. С. Наука/В. С. Степин//Новейший философский словарь. -Минск: Изд. В.М. Скакун, 1999. -С. 457-459.
- Яскевич, Я. С. Научная аргументация: логико-коммуникативные параметры/Я. С. Яскевич//Речевое общение и аргументация. -СПб.: Экополис и культура, 1993. -Вып. 1. -С. 93-102.
- Braet, A. C. The Oldest Typology of Argumentation Schemes/A. C. Braet//Argumentation. -2004. -Vol. 20, № 1. -P. 127-148.
- Eemeren, F. H. van. Argumentation Theory/F. H. van Eemeren//Handbook of Argumentation Theory. -Dordrecht: Springer, 2014. -P. 1-50.
- Eemeren, F. H. van. Fundamentals of Argumentation Theory: A Handbook of Historical Backgrounds and Contemporary Developments/F. H. van Eemeren, R. Grootendorst, A. F. Snoeck Henkemans, J. A. Blair, R. H. Johnson, E. C. W. Krabbe, C. Plantin, D. N. Walton, C. A. Willard, W. Woods, D. Zcirefsky. -Mahwah: Lawrence Erlbaum, 1996. -Vol. XI. -424 р.
- Eemeren, F. H. van. The State of the Art in Argumentation Theory/F. H. van Eemeren//Crucial Concepts in Argumentation Theory/ed. by F. H. van Eemeren. -Amsterdam: Amsterdam University Press, 2001. -P. 11-26.
- Garssen, B. J. Argument Schemes/B. J. Garssen//Crucial Concepts in Argumentation Theory/ed. by F. H. van Eemeren. -Amsterdam: Amsterdam University Press, 2001. -P. 81-99.
- Zompetti, J. P. The Value of Topoi/J. P. Zompetti//Argumentation. -2006. -Vol. 20, № 1. -P. 15-28.
- БД1 -Вараб'ёў, В. Не "чацвёртая ўлада", а палiтычны iнстытут грамадства!/В. Вараб'ёў//Беларуская думка. -2003. -№ 4. -С. 108-118.
- БД2 -Скараходаў, У. Чалавек -творчасць -цывiлiзацыя/У. Скараходаў//Беларуская думка. -2003. -№ 7. -С. 161-168.
- БД3 -Смольскi, Р. Мастацкi лiдэр -не пасада, а мiсiя/Р. Смольскi//Беларуская думка. -2008. -№ 3. -С. 62-67.
- БЛ -Шаблоўскi, А. I. Прырода лексiчнай катэгорыi/А. I. Шаблоўскi//Беларуская лiнгвiстыка. -2005. -Вып. 55. -С. 11-20.
- БЛ1 -Антропаў М. П. Этналiнгвiстычная атракцыя i яе вырыятыўны патэнцыял/М. П. Антропаў//Беларуская лiнгвiстыка. -2010. -Вып. 65. -С. 3-10.
- БЛ2 -Бандарэнка, Н. Д. Парцэляваныя канструкцыi ў аспекце агульных праблем тэорыi сiнтаксiсу/Н. Д. Бандарэнка//Беларуская лiнгвiстыка. -2004. -Вып. 54. -С. 72-80.
- БЛ3 -Нiкалаева, В. М. Двухмоўная лексiкаграфiя: праблемы складання руска-беларускiх слоўнiкаў/В. М. Нiкалаева, Т. М. Трухан//Беларуская лiнгвiстыка. -2011. -Вып. 67. -С. 3-14.
- БЛ4 -Паўлоўская, Н. Ю. Ацэнка ў сiстэме мадальных значэнняў/Н. Ю. Паўлоўская//Беларуская лiнгвiстыка. -2014. -Вып. 73. -С. 3-13.
- БЛ5 -Хлусевiч, I. М. Лексiчныя варыянты фразеалагiзмаў/I. М. Хлусевiч//Беларуская лiнгвiстыка. -2001. -Вып. 50. -С. 32-38.
- ВБДУ -Падаляк, Т. У. Злачынствы супраць чалавецтва не маюць тэрмiну даўнасцi: да пытання аб рэабiлiтацыi (гераiзацыi) нацызму/Т. У. Падаляк//Веснiк БДУ. Сер. 4, Фiлалогiя. Журналiстыка. Педагогiка. -2015. -№ 1. -С. 62-66.
- ВБДУ1 -Iўчанкаў, В. I. Слова i iсцiна ў парадыгме сучаснай журналiстыкi/В. I. Iўчанкаў//Веснiк БДУ. Сер. 4, Фiлалогiя. Журналiстыка. Педагогiка. -2011. -№ 2. -С. 83-86.
- ВБДПУ -Курапаткiн, А. М. Сацыяльна-псiхалагiчная адаптацыя i вобраз "Я" ў юнацтве/А. М. Курапаткiн//Весцi БДПУ. Сер. 1, Педагогiка. Псiхалогiя. Фiлалогiя. -2005. -№ 4. -С. 47-51.
- ВМУ -Добросклонская, Т. Г. Что такое медиалингвистика?/Т. Г. Добросклонская//Вестник Московского университета. Сер. 19, Лингвистика и межкультурная коммуникация. -2004. -№ 2. -С. 9-17.
- ВМУ-Ж -Пронина, Е. Е. «Живой текст»: четыре стилевых признака Net-мышления/Е. Е. Пронина//Вестник Московского университета. Сер. 10, Журналистика. -2001. -№ 6. -С. 74-80.
- ВНАНБ -Каспяровiч, Г. I. Тэарэтычныя пытаннi этнакультурнага развiцця этнiчных супольнасцей/Г. I. Каспяровiч//Весцi Нацыянальнай АН Беларусi. Серыя гуманiтарных навук. -2001. -№ 4. -С. 67-72.
- ВНАНБ1 -Лазарэвич, А. А. Iнфармацыйныя пагрозы сучаснасцi/А. А. Лазарэвич//Весцi Нацыянальнай АН Беларусi. Серыя гуманiтарных навук. -2010. -№ 1. -С. 5-11.
- ВЯ1 -Анищенко, О. А. Эволюция обозначения молодежной речи: от технического языка до жаргона/О. А. Анищенко//Вопросы языкознания. -2009. -№ 2. -С. 108-116.
- ВЯ2 -Касаткин, Л. Л. О природе фонемы/Л. Л. Касаткин//Вопросы языкознания. -2009. -№ 2. -С. 92-102.
- НИК1 -Аниконова, Т. Г. Праздничный календарь в формировании ценностных установок общества/Т. Г. Аниконова//Наука. Искусство. Культура. -2015. -Вып. 6. -С. 20-30.
- НИК2 -Бабинцев, В. П. «Антиинтеллигенция» и «неинтеллигенция» в структуре работников умственного труда/В. П. Бабинцев//Наука. Искусство. Культура. -2015. -Вып. 5. -С. 106-114.
- НИК3 -Бондаренко, Е. А. Этнотуризм и рекреация человеческого капитала в культуре региона/Е. А. Бондаренко, О. Н. Римская//Наука. Искусство. Культура. -2015. -Вып. 5. -С. 115-121.
- НИК4 -Зелиско, Л. И. Моральные императивы Нового Завета в процессах инкультурации личности/Л. И. Зелиско//Наука. Искусство. Культура. -2015. -Вып. 5. -С. 93-100.
- НИК5 -Селюкова, Т. А. Народная музыка -неотъемлемая часть народного художественного творчества/Т. А. Селюкова, Э. А. Селюков//Наука. Искусство. Культура. -2015. -Вып. 5. -С. 57-61.
- НПЖ1 -Дубровина, И. В. Психологическая культура и образование/И. В. Дубровина//Национальный психологический журнал. -2007. -№ 2. -С. 16-20.
- НПЖ2 -Ениколопов, С. Н. Терроризм и агрессивное поведение/С. Н. Ениколопов//Национальный психологический журнал. -2007. -№ 2. -С. 28-32.
- НПЖ3 -Реан, А. А. Семьи риска. Дети. Общество/А. А. Реан//Национальный психологический журнал. -2007. -№ 2. -С. 40-43.
- РС -Канцавая, Г. Гiпертэкст/Г. Канцавая//Роднае слова. -2001. -№ 7. -С. 79-83.
- СА -Бабосов, Е. М. Креативное управление и его роль в преодолении кризиса/Е. М. Бабосов//Социологический альманах. -2010. -Вып. 1. -С. 13-19.
- СА1 -Сосновская, Н. А. Толерантность и ее проявление в общественном сознании населения Беларуси/Н. А. Сосновская//Социологический альманах. -2015. -Вып. 6. -С. 244-252.
- ФН1 -Жаналина, Л. К. Морфема в интегративной лингвистике/Л. К. Жаналина//Филологические науки. -2009. -№ 3. -С. 37-46.
- ФН2 -Чернейко, Л. О. М.В. Ломоносов и язык науки/Л. О. Чернейко//Филологические науки. -2011. -№ 6. -С. 3-14.
- ФН3 -Чернейко, Л. О. Философско-лингвистический аспект изучения моды/Л. О. Чернейко, Д. А. Башкатова//Филологические науки. -2008. -№ 2. -С. 86-98.
- ФН4 -Чернявская, В. Е. От анализа текста к анализу дискурса: немецкая школа дискурсивного анализа/В. Е. Чернявская//Филологические науки. -2003. -№ 3. -С. 68-76.